
Константин Демидов – автор двух поэтических сборников: «Признание» (2003), «Есть у сердца Родина» (2021). Его стихи публиковались в сборниках поселка Большой Луг, Шелехова и...

125 лет назад родился Антуан де Сент-Экзюпери.
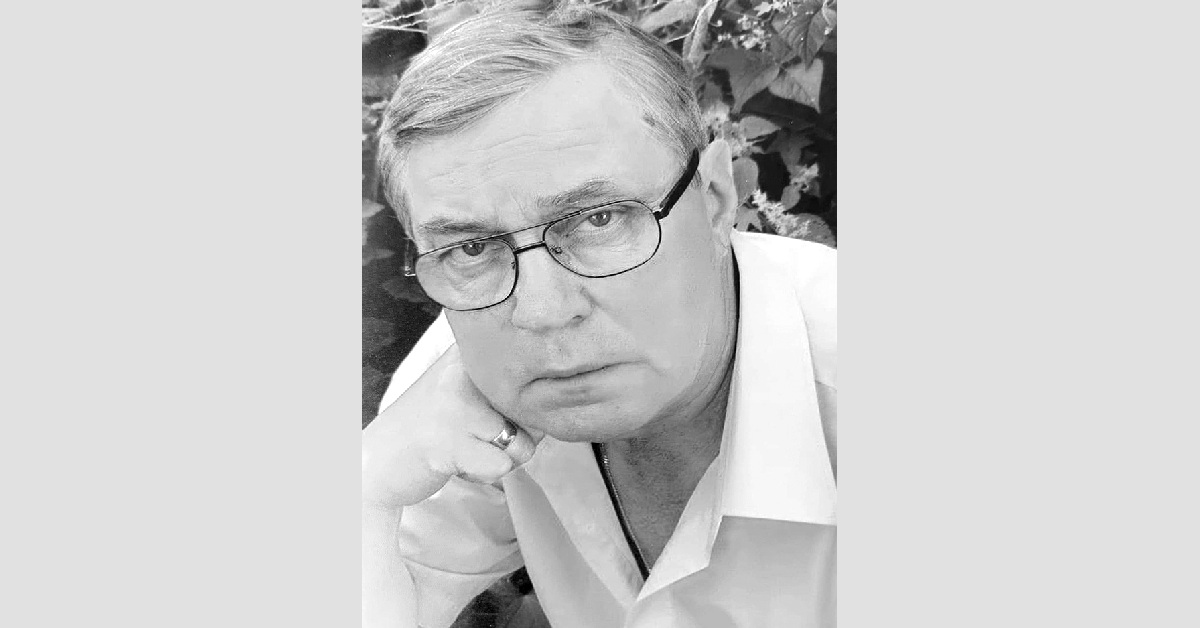
С этим нашим автором – Виктором Калинкиным наш читатель уже знаком (его рассказ «Сирота» был опубликован в апрельском номере «Перевала»). Виктор Николаевич родился в 1950 году в Забайкалье, окончил отделение журналистики ИГУ в 1978 году, работал в районных, городских и областных газетах. С 1982 по 2002...

Исполнилось 75 лет народному артисту России Константину Райкину.

20 июля исполнится 85 лет Давиду Тухманову.
По ком звонит колокол Первой мировой? |
| 12 Ноября 2015 г. |
|
О том, какие уроки современные политики могут извлечь из Первой мировой войны, в интервью "Росбалту" рассуждает чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации, доктор исторических наук Петр Стегний. — С момента окончания Первой мировой прошло уже 97 лет. Несмотря на такой большой срок, можно ли сказать, что ход и итоги той войны до сих пор влияют на ситуацию в мире? — Вы знаете, для моего поколения система метафор во многом определялась эпиграфами книг, которые мы прочитали в 1960-е годы. Для эпиграфа к своему самому известному роману Эрнест Хемингуэй взял отрывок из проповеди англиканского проповедника Джона Донна: "Не спрашивай никогда, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе". Так вот, я думаю, что любая подобная памятная дата – это удар колокола, к которому надо прислушаться, даже если мы не сразу понимаем, почему он ударил именно сейчас. Тем не менее, это стимул для того, чтобы что-то вспомнить, что-то понять и сделать практические выводы относительно наших сегодняшних забот, печалей и проблем. Колокола памятных дат звонят неизменно по каждому из нас и по всем нам вместе. Сейчас слишком многое вступает в резонанс с нашей памятью о Первой мировой войне. Сегодняшняя обстановка в мире, разразившееся гибридное противостояние, в котором мы являемся активным объектом, а постепенно становимся и его субъектом, сравнимы по характеру угроз с трагедией Первой мировой. Ведь еще в июле 1914 года войны никто всерьез не хотел. Исключением, возможно, был Вильгельм II — человек, отягощенный определенными личными комплексами и живший в логике прусского милитаризма. Начальная стадия войны в принципе была не противостоянием реальной политики, а соревнованием самолюбий, амбиций, ошибочных или неточных интерпретаций иллюзий, касающихся вопросов большой политики. Возможно, это самая актуальная параллель между 1914 и 2015 годами. Я, в том числе, говорю и о том, что в России в 1914 году, как и при начале других больших конфликтов, в которых она неизменно выступала в качестве стратегического тыла Европы, присутствовало раздвоение понимания целей войны и цены, которую придется в результате заплатить. Основным противоречием современности, согласно формулировке американцев, также является то, что наши представления о мире довлеют над реальностью. — То есть мы можем сказать, что сейчас, как и в 1914 году, происходит столкновение иллюзий и штампов? — Пожалуй, это даже не конфликт штампов, а конфликт нарративов, который очень часто заканчивается военным противостоянием. Именно поэтому нам очень важно еще раз осмыслить итоги дипломатического противоборства в канун Первой мировой войны, чтобы использовать их и, не дай Бог, не соскользнуть к активной конфронтации как к результату столкновения разных нарративов, которые мы потом даже не сможем объяснить. То, что я говорю, может показаться схоластикой, не имеющей отношения к реальной политике. На самом деле это не так. Если мы оставляем какие-то вопросы без ответа, это не значит, что их не существует. Например, сейчас всех заботит вопрос, почему мы не можем понять друг друга в Сирии. Чем стратегически цели России не устраивают американцев? Посмотрите на аргументы США. Они ведь абсолютно уверены в своей правде. А в наших глазах их правда не имеет ничего общего с нашей позицией. Для нас совершенно ясно, что сегодня главный приоритет – это спасение оставшихся руин здравого смысла на Ближнем Востоке в лице режима Башара Асада. При том, что мы все-таки никогда не выступали за спасение Асада лично. Во всяком случае, мы никогда не хотели выглядеть его адвокатами. В итоге мы сейчас очень близки к активной фазе конфронтации. И самое главное — никто не может объяснить, почему так происходит, как и сто лет назад. Мой учитель, востоковед и историк Григорий Львович Бондаревский, всю жизнь трудился над дипломатической предысторией Первой мировой войны. Он работал во всех архивах мира, написал восемь томов. Я у него не раз спрашивал, почему он их не публикует. В ответ он говорил, что чем больше знает, тем меньше понимает. И это не парадокс, а феномен, отражающий логику и способность нашего познания делать выводы и учитывать собственные ошибки. — Вы упомянули, что сегодня очень важно сделать выводы из уроков Первой мировой войны. Но вы можете привести пример, когда уроки любых крупных конфликтов вообще учитывались? — На самом деле, в истории любого государства таких примеров хватает. Тут есть другая проблема. Мы способны усваивать ошибки частного, технического уровня и делать вывод, что их не надо повторять. Правильно написанная история дипломатии – это, в принципе, методическое пособие, как избежать ошибок, так как дипломатия является, по сути, наукой о прецедентах. Я бы сказал, что вся мировая интеллектуальная история, как и литература, представляет собой набор шестнадцати сюжетов. Все повторяется, ничего нового ведь не придумано. Посмотрите, сколько раз потребность в маленькой победоносной войне показывала свою полную непродуктивность. Казалось бы, нам с этой идеей пора было бы уже давно покончить, хотя бы после русско-японской войны. Тем не менее, Николай II ввязался в Первую мировую сразу же после катастрофических результатов войны с Японией. Все дело в том, что всякий раз психология человека подсказывает ему, что тогда было одно, а сейчас будет все совсем по-другому. В прошлый раз была аномалия, а сейчас все будет хорошо. Поэтому всегда и во всех случаях я очень боюсь великодержавного доктринерства. Сегодня оно исходит от США, исходит от Франции, которая всегда стояла в полушаге от реального статуса великой державы. — Про нашу страну можно сказать, что ей свойственно великодержавное доктринерство? — Да, мы тоже продуцируем эти мифы. Мне здесь хочется привести следующий пример. В свое время я опубликовал книгу "Хроники времен Екатерины II". В ней я описывал момент, связанный с потемкинскими деревнями в контексте путешествия императрицы в Тавриду в 1787 году. И я достаточно, на мой взгляд, безобидно сказал, что это типичный случай соглашения между нашей безликой бюрократией и политиками, заинтересованными в том, чтобы приукрасить реальный результат своей деятельности. Я считаю, что такой подход проходит через всю нашу историю, в том числе и советскую. Так в итоге тогда на меня ополчилась вся наша патриотическая общественность, возмутившись, как я могу так говорить об эпохе Екатерины, самом светлом времени в истории России! Я против великодержавного доктринерства, в том числе и когда речь идет о России. Оно неприемлемо даже в объяснении той рациональной политики, которую проводит правительство. Когда эту политику начинают снова и снова объяснять стереотипами из неверно прочитанного и понятого прошлого, во мне что-то протестует. Например, я считаю, что Екатерина II повесила на шею России два хомута, от которых, к сожалению, наша страна не смогла избавиться до Первой мировой войны. Вспомните, в последнем приказе по армии и флоту, подписанном Николаем II 16 декабря 1916 года, говорилось, что Россия не может пойти на заключение мира с Германией, пока не будут решены две исторические задачи: обладание Царьградом и проливами, а также воссоздание Польши из всех ее разрозненных областей. Идея проливов на протяжении столетий довлела над нашими отношениями с Османской империей и над черноморской политикой. Не надо забывать, что рецидив этой идеи случился и после Второй мировой войны, когда мы попытались установить совместный контроль над Босфором. И в результате мы затолкали Турцию в НАТО. Последовательность событий была именно такая, но об этом сейчас не вспоминают. Так что когда речь идет о столкновении нарративов, то гораздо важнее знать пределы собственных возможностей и понимать, что ошибки были ошибками. Пока ты этого не признаешь, то будешь эту ошибку повторять снова и снова. — Я все-таки еще раз повторю вопрос: можете ли вы привести примеры, когда такие ошибки признавались и учитывались? — Вот вам пример из недавней истории и моей личной практики. Когда я работал в Турции, ко мне обратилась группа турецких военно-морских офицеров и местных энтузиастов. Они попросили посодействовать созданию музея Чесменской битвы. Я уточнил, правильно ли я их понял, что они хотят основать музей своего самого крупного национального поражения, когда Алексеем Орловым, человеком, впервые вставшим на палубу военного корабля, был потоплен весь турецкий флот? Они ответили утвердительно. В ответ на вопрос: "Почему?" они сказали фразу, которую нам бы давно пора понять: для великих держав помнить о своих ошибках важнее, чем о победах. Что особенно важно, это была не деланная позиция, не красивая фраза для журналистов. Это был сухой итог изобиловавшей ошибками всей османской истории, попытка преодоления ее. В том числе — трагического периода от Севра до Лозанны, когда турки вообще едва остались на политической карте. Ведь победители в Версале изначально планировали разделить Турцию на несколько государств. К сожалению, идеи того, что Ближний Восток снова надо переформатировать, провести в арабском мире новые границы (которые, боюсь, окажутся новыми колониальными границами), присутствуют и сейчас. Здесь нелишним будет вспомнить печально известную карту Ральфа Петерса, отражающую подходы правого крыла американского экспертного сообщества к государственно-политической конфигурации "Нового Ближнего Востока": вместо Саудовской Аравии — три государства, от Турции — одни ошметки, на территории Ирака — отдельные шиитское и суннитское государства и т.д. Особую критику в Турции вызвало то, что эта карта выглядит как развитие идей американского президента Вудро Вильсона применительно к современным условиям. Понятно, что идеи Ральфа Петерса не находятся в мейнстриме американских подходов к будущему Большого Ближнего Востока, но и сбрасывать со счетов их тоже не надо. — Получается, что процессы, происходящие сегодня на Ближнем Востоке, – это тоже отголосок Первой мировой войны? — Без сомнения, пафос Исламского государства (запрещенной в России террористической организации) – тоже эхо Первой мировой войны. Это, в том числе, последствие тайного соглашения Сайкса-Пико, подписанного в 1916 году правительствами Великобритании, Франции и России, в котором разграничивались сферы интересов на Ближнем Востоке после Первой мировой. Исламское государство считает его олицетворением всего того, против чего оно борется: колониальные границы, разъединенные народы и т.д. На Ближнем Востоке об этом соглашении очень хорошо помнят. Так что мы не должны недооценивать образовательный ценз тех, кого Америка стремится демократизировать. Взгляд сверху вниз является матрицей очень многих ошибок. — Несколько лет назад вы сказали, что существуют два главных сценария развития ситуации на Ближнем Востоке: версальская матрица (по аналогии с "переделом Европы" после Первой мировой войны, когда раздел арабских владений Османской империи происходил при ведущей роли внешних сил) и вестфальская матрица (отсылка к Вестфальскому миру 1648 г., длительный и болезненный процесс "саморазвития" демократического содружества национальных государств). Сегодня уже можно сказать, какой из этих двух сценариев лежит в основе нынешних событий в ближневосточном регионе? — Если бы я не считал, что преимущественные шансы все-таки за естественным развитием системы международных отношений в русле вестфальских принципов, международного универсального общепринятого права и признания приоритета суверенитета, то, наверное, и не развивал эту тему. При этом Вестфальская система не означает, что все надо пустить на самотек и не вмешиваться в ход истории. Это невозможно. Элементы версальского подхода все равно будут присутствовать. Но сила права должна оставаться главенствующей. Хотя вестфальская система в целом сегодня переживает серьезный кризис. Рубеж, на мой взгляд, наступил в январе 2006 года, когда Кондолиза Райс, госсекретарь при Дж. Буше-младшем, выступила с большой программной речью, в которой выдвинула идею, практически ни в чем не смыкающуюся с практикой трех веков дипломатии. Напрямую вестфальская система ею не была упомянута, но она фактически поставила крест на вестфальском понимании суверенитета, заявив, что главной миссионерской ролью США является продвижение во всем мире демократии, которая гораздо выше понятия суверенитета. Мы долго не могли понять смысл этого демарша, хотя он был совершенно открытый. И внутри МИДа активно обсуждали, что это точка слома и здесь нельзя молчать. Но в итоге мы как-то завязли во всех этих "семерках" и прочих процессах, и по существу промолчали. Но я хотел бы здесь вернуться к тому вопросу, который вы задали относительно того, способно ли человечество делать выводы из прошлых ошибок. Я бы дополнил свой предыдущий ответ. Думаю, что в коллективном формате — способно. В том числе хочется верить, что оно способно понять и нелепость версальской схемы.
|











