
Константин Демидов – автор двух поэтических сборников: «Признание» (2003), «Есть у сердца Родина» (2021). Его стихи публиковались в сборниках поселка Большой Луг, Шелехова и...

125 лет назад родился Антуан де Сент-Экзюпери.
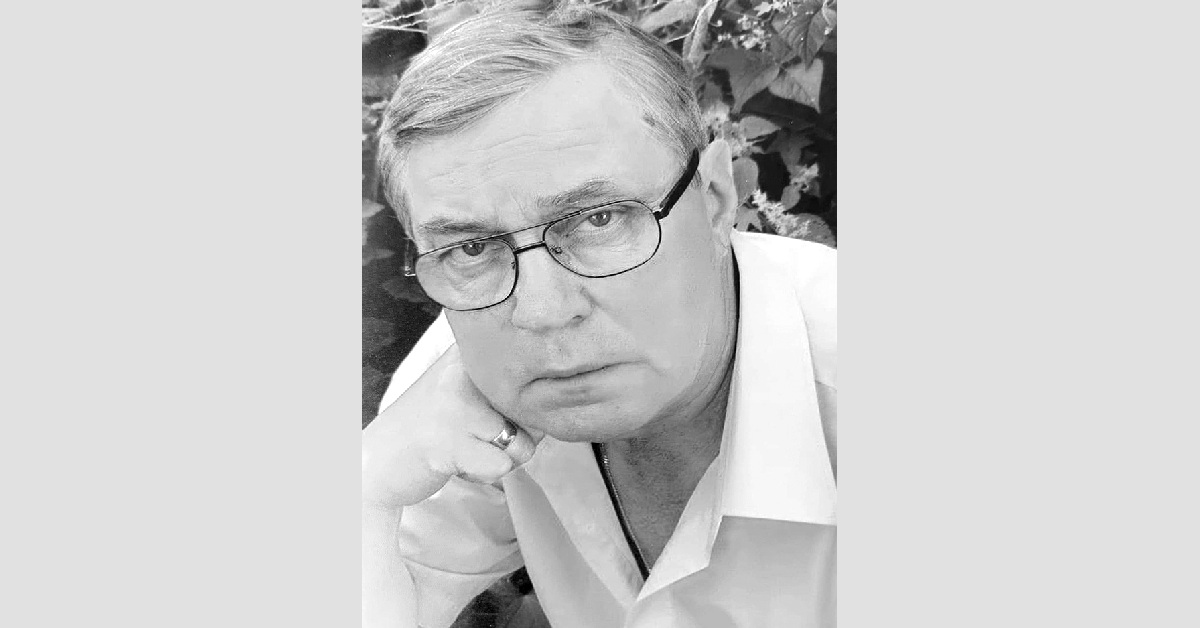
С этим нашим автором – Виктором Калинкиным наш читатель уже знаком (его рассказ «Сирота» был опубликован в апрельском номере «Перевала»). Виктор Николаевич родился в 1950 году в Забайкалье, окончил отделение журналистики ИГУ в 1978 году, работал в районных, городских и областных газетах. С 1982 по 2002...

Исполнилось 75 лет народному артисту России Константину Райкину.

20 июля исполнится 85 лет Давиду Тухманову.
Память о «советской оккупации» превратилась в идеологию стран Балтии |
| 18 Июня 2015 г. |
|
В эти дни в странах Балтии проходят памятные мероприятия – Литва, Латвия и Эстония отмечают 75 лет со дня начала «советской оккупации». Этот термин, который Россия не признавала даже во времена Ельцина и Козырева, стал основой политического сознания Прибалтики. Меж тем, с тем же успехом можно было отмечать и 75-летие падения трех диктаторских режимов, а термин «оккупация», мягко говоря, спорен. Ровно 75 лет назад, 17 июня 1940 года, дополнительные контингенты советских войск проследовали на советские военные базы в Эстонии и Латвии. Чуть раньше, 15 июня, дополнительные части РККА перебазировались на советские же военные базы в Литве. С точки зрения российской историографии перед нами один из эпизодов (и даже не самый значительный) растянутого по времени процесса «советизации» прибалтийских государств. С точки зрения современных политиков Прибалтики – начало «советской оккупации». Немалый интерес представляет сама разница в оценках одного исторического события. Почему именно 15–17 июня? Ведь еще в сентябре 1939 года Эстония заключила с СССР Пакт о взаимопомощи, подразумевающий размещение советских военных баз на своей территории. В октябре аналогичный договор был заключен с Латвией и Литвой. Были ли эти соглашения продиктованы исключительно доброй волей договаривающихся сторон? Не вполне. С куда большим основанием можно утверждать, что они стали следствием геополитической игры, на одной стороне которой была усиливающая свою мощь гитлеровская Германия, на другой – Англия и Франция, блюдущие свои интересы, на третьей – СССР с неоднократными попытками (с 1933 по 1939 годы) создать в Европе оборонительный союз на случай германской агрессии. Эти инициативы Москвы были торпедированы не без участия балтийских стран. «Препятствием к заключению такого соглашения, – писал в своих мемуарах Уинстон Черчилль, – служил ужас, который эти самые пограничные государства испытывали перед советской помощью... Польша, Румыния, Финляндия и три прибалтийских государства не знали, чего они больше страшились – германской агрессии или русского спасения». Отметим в скобках, что у перечисленных государств действительно были основания опасаться СССР – очень уж антисоветскую политику они вели многие годы, опираясь на покровительство вначале Германии, затем Англии. Вследствие этого данные страны всерьез рассчитывали на участие Англии, а затем снова Германии в своей судьбе. В июне 1939 года Эстония и Латвия подписали с Гитлером договор о ненападении, который тот же Черчилль характеризовал как полный развал только что наметившейся антинацистской коалиции. Другое дело, что Черчилль в своих мемуарах несколько преувеличивает роль пограничных с СССР государств, «забывая», что основную вину за провал переговоров о создании европейского оборонительного союза несут сами Англия и Франция. Столкнувшись с явным нежеланием европейских лидеров обсуждать совместные оборонительные инициативы, в августе 1939 года СССР также подписал с Германией Договор о ненападении, в секретных протоколах к которому разграничил сферы влияния у своих границ. И потому, когда Москва напрямую обратилась к руководству балтийских государств с предложением о заключении договора, а также – в целях расширения своей сферы безопасности – о размещении в Эстонии, Латвии и Литве своих военных баз, Великобритания и Франция умыли руки, а Германия рекомендовала принять предложение Сталина. Так в октябре 1939 года 25-тысячный контингент РККА разместился на военных базах в Латвии, 25-тысячный – в Эстонии и 20-тысячный в Литве. Далее, в связи с антисоветской политикой прибалтийских государств и пронемецкой ориентацией их правительств (по оценке Москвы), со стороны Советского Союза последовали обвинения в нарушении условий заключенных соглашений. В июне 1940 года Эстонии, Латвии и Литве были предъявлены ультиматумы с требованием сформировать правительства, способные обеспечить выполнение договоров 1939 года, а также допустить на свою территорию дополнительные контингенты Красной армии. Существует распространенное заблуждение, что СССР в таком тоне говорил с солидными европейскими буржуазными демократиями, свято соблюдающими политику нейтралитета. Однако Литовской Республикой в то время (с 1926 по 1940 годы) управлял Антанас Сметона – диктатор, пришедший к власти в результате военного переворота 26-го года, глава Союза литовских националистов – партии весьма и весьма одиозной, ряд исследователей прямо называют ее профашистской. Латвией с 1934 по 1940 год правил президент Карлис Улманис, также пришедший к власти в результате военного переворота, отменивший конституцию, разогнавший парламент, запретивший деятельность политических партий и закрывший неугодные СМИ в стране. Наконец, Эстонию возглавлял Константин Пятс, устроивший военный переворот в 1934 году, объявивший чрезвычайное положение, запретивший партии, собрания и введший цензуру. Советский ультиматум 1940 года был принят. Президент Сметона бежал в Германию, по окончании Второй мировой войны он, как и многие другие «демократические деятели Европы», всплыл уже в США. Во всех трех странах были сформированы новые правительства – не большевистские. Они восстановили свободу слова, собраний, сняли запрет на деятельность политических партий, прекратили репрессии в отношении коммунистов и назначили выборы. 14 июля победу на них во всех трех странах одержали прокоммунистические силы, которые в конце июля объявили о создании Эстонской, Латвийской и Литовской Советских социалистических республик. Современные прибалтийские историки не сомневаются, что «организованные под дулами винтовок» выборы были фальсифицированы с очевидной целью – окончательной «советизации» этих стран. Но существуют факты, позволяющие усомниться в такой трактовке событий. Например, военный переворот Сметоны в Литве сверг власть левой коалиции. В целом же достаточно распространено заблуждение, что большевиков в губернии бывшей Российской империи завозили исключительно из Петрограда, местные же силы были заведомо антибольшевистскими. Однако в Эстляндской губернии (примерно соответствует территории современной Эстонии) осенью 1917 года РСДРП(б) была крупнейшей партией, насчитывавшей более 10 тысяч членов. Также показательны и результаты выборов в Учредительное собрание – по Эстляндии они дали большевикам 40,4%. В Лифляндской губернии (примерно соответствует территории Латвии) выборы в Учредительное собрание принесли большевикам уже 72% голосов. Что до Виленской губернии, часть территории которой находится сегодня в составе Белоруссии, часть – в составе Литвы, на 1917 год была оккупирована Германией, и данных об активности большевиков в регионе не существует. Собственно, только дальнейшее продвижение немецких войск и оккупация Прибалтики позволили укрепиться у власти местным национально-буржуазным политикам – на германских штыках. В дальнейшем занявшие жесткую антисоветскую позицию руководители стран Балтии опирались, как уже упоминалось, на поддержку Англии, затем пытались вновь заигрывать с Германией, а правили не вполне демократическими методами. Так что же произошло непосредственно 15–17 июня 1940 года? Всего лишь ввод дополнительных армейских контингентов в страны Прибалтики. «Всего лишь» потому, что договоры о создании военных баз СССР страны подписали еще в 1939 году, ультиматум Эстонии, Латвии, Литве был выдвинут и принят 14–16 июня 1940 года, выборы, приведшие к власти социалистов, состоялись в середине июля, провозглашение Советских Социалистических республик – в конце июля 1940 года, а вхождение в состав СССР – в августе. Каждое из этих событий по своему масштабу перевешивает ввод дополнительных контингентов на военные базы. Но без войск невозможно говорить об оккупации. А «советская оккупация» – альфа и омега современного госстроительства у наших ближайших западных соседей. И потому именно эта промежуточная дата в длительной истории «советизации» трех стран выбрана в качестве ключевой. Вот только история, как обычно, немного сложнее, чем транслируемые СМИ идеологические конструкции.
|











