
«Москвич-407» 1958 года с пробегом в 700 километров продается в Голицыно. Эта машина была выпущена в год появления такой модели на рынке.
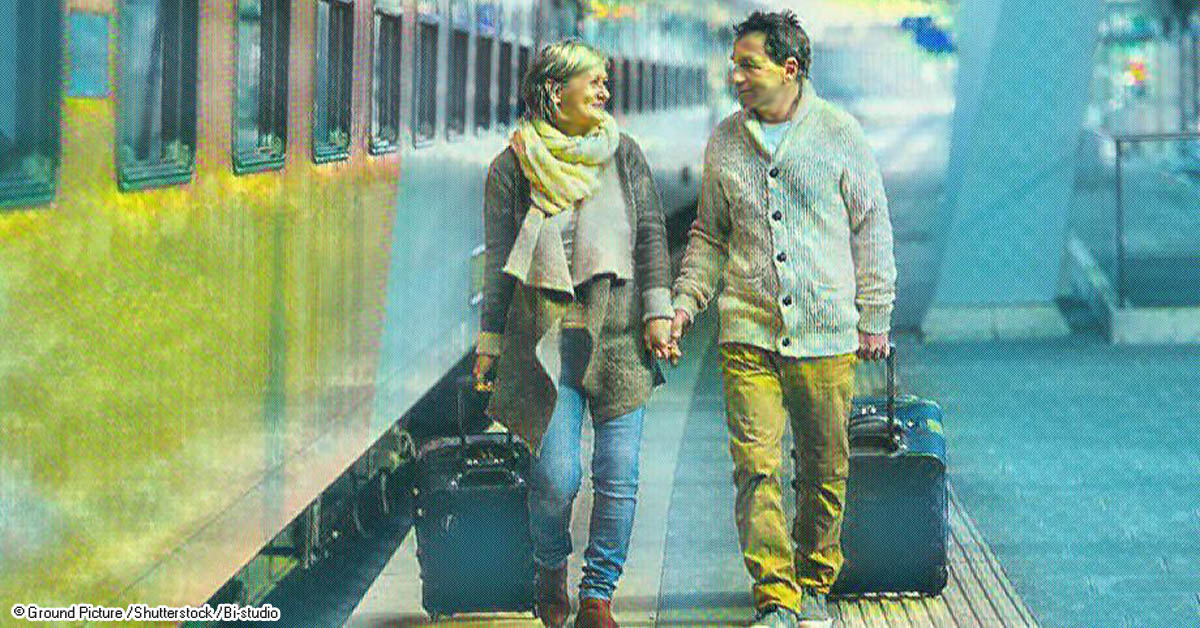
Абхазия – гостеприимная страна. Путешествие туда может обойтись дешевле, чем на соседние курорты Краснодарского края. Примерно, на 20-30%. Стало известно, сколько будет стоить отдохнуть в стране души недельку на...
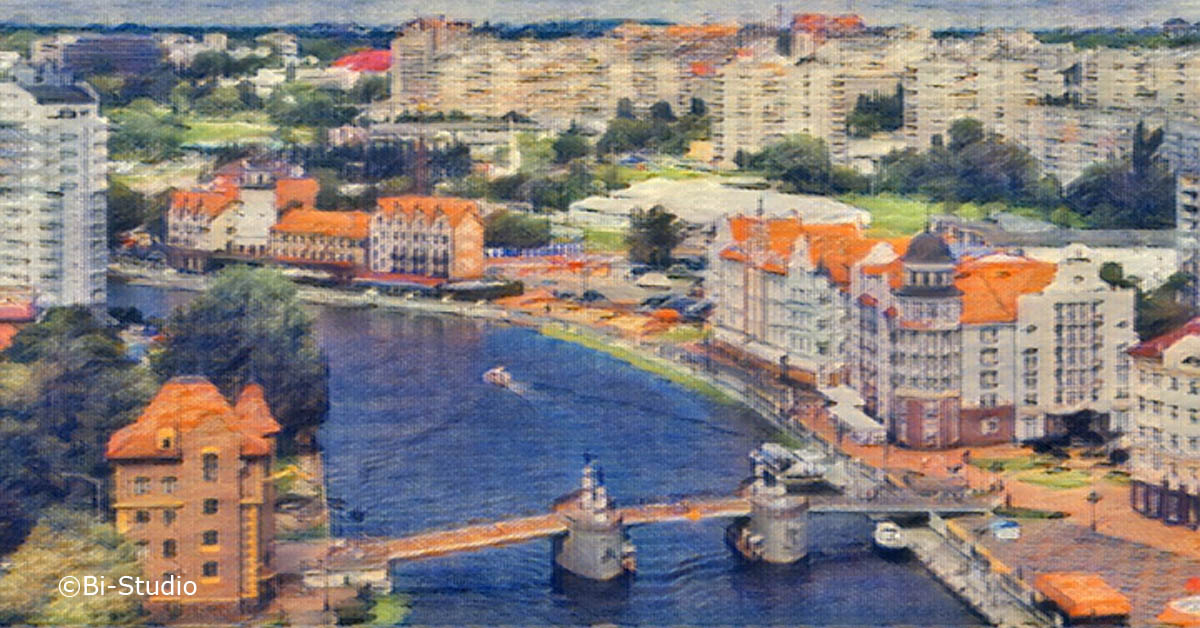
Супруги Мариус и Наталья Коойман – из Голландии. Как-то пара решила приобрести в Калининграде дом и там поселилась. Муж с женой отметили плюсы жизни в России. Какими же они...

Бернис Франк и Глория Липман из США – столетние сестры-близнецы. У этих двух пожилых дам есть несколько секретов долголетия. Какие они?

Происшествие случилось во Франции, во время фестиваля уличной музыки. Там неизвестные укололи шприцами 145 подростков.
На «Спрее» вокруг Байкала |
| 05 Мая 2016 г. |
|
Был у меня в посёлке Большая Речка хороший друг Юрий Андреевич Панов. И поддерживали мы эту дружбу 44 года. Юра – харьковчанин. Его отец, известный украинский поэт, в 1937 году был расстрелян как враг народа. Юра тоже был обречён как сын врага народа, и в 1941 году получил свои стандартные 10 лет, которые и провёл в ГУЛАГе. После освобождения он поселился в Большой Речке, работал в лесхозе. Реабилитирован в 60-е годы. Юра был талантливым художником-реалистом, любил сибирскую природу, особенно Байкал, который и увековечил в своих картинах. Анатолий Лядецкий. Он же рулевой, он же кок, он же рыбак, он же фотограф Его жилистые руки с заскорузлыми, потрескавшимися пальцами, в которые въелась уже ничем не вымываемая чернота, писали замечательные картины маслом, чеканили на меди, а из уродливо изогнутых природой сучьев и корней изготавливали великолепные неповторимые скульптуры. Для походов по Байкалу он собственноручно построил алюминиевую парусно-моторную яхту на четыре спальных места и назвал её «Спрей». Название символическое. Спрей – это имя 16-летнего парня, который на одноместной яхте в одиночку совершил кругосветное путешествие. Подвиг, достойный восхищения всех мореходов! «Спрей» к отплытию готов! Юра своими руками построил дом с мансардой на берегу водохранилища и обставил его мебелью, сделанной собственными руками из лиственницы. Такой это был человек – редкий умелец. Я давно лелеял мечту провести отпуск с Юрой на Байкале, чтоб никуда не спешить и останавливаться где захочется, фотографировать природу, отдыхать, пока не надоест, но не имел такой возможности, так как лето проводил на полевых работах. И только когда стал главным инженером экспедиции, у меня появилась такая возможность, и я трижды ею воспользовался. И вот в 1970 году в компании его школьного товарища из Харькова Виктора мы и отчалили, оставляя за кормой расходящийся усами след. Наш маршрут пролегал через Большую Речку, Большие Коты, Большое Голоустное, бухту Песчаную, Большую Бугульдейку, пролив Ольхонские Ворота, мыс Хобой, посёлок Максимиха, Чивыркуйский залив, остров Большой Ушканий, бухту Покойники, Большой Кочериков, Большую Заму и возвращение на Большую Речку вдоль восточного побережья. Хозяин прибайкальской тайги.... Лето было в самой спелой поре – почти середина августа. За два дня дошли до пролива Ольхонские Ворота и ночевать зашли в какой-то мелководный тихий залив, именуемый на Байкале «сор». Утром вокруг яхты собралось много чаек, явно рассчитывающих на угощение. Мы скормили им буханку хлеба и подкрепились сами. К обеду достигли самой северной оконечности острова Ольхон – мыса Хобой. Тут Байкал раздвинул берега на всю свою 70-километровую ширь, и верховик гулял вовсю, подымая белые гребни волн. Это едва ли не самый главный и один из самых продолжительных байкальских ветров. Он захватывает озеро почти на всём его протяжении и в августе, и позже может дуть, не переставая, по шесть-десять суток. Верховиком называется потому, что дует с верхнего северного конца озера. Дальнейший наш маршрут лежал на ту сторону Байкала в Баргузинский залив. И если плыть, то ветер уже будет боковым, а волна крутая и, несомненно, не пощадит. Мы не собирались испытывать плавучесть «Спрея» и сочли благоразумным переждать. Но укрыться было негде. Заякорились недалеко от берега. Забрав палатку, спальники, продукты и необходимую посуду, на надувной резиновой лодке высадились на берег, а яхту оставили болтаться на якоре. Вымокли до нитки. На ветру с трудом натянули палатку, собрали на берегу выброшенные волной доски, горбыль, куски фанеры и соорудили из них возле палатки защиту от ветра. Развели костер и обсушились. На следующий день Юра писал этюды, а я кашеварил и собирал по берегу дрова. К полудню ветер стал угасать и к вечеру стих. Утро вечера мудренее, решили мы. А мудрёное утро преподнесло нам сюрприз: Байкал окутал густой туман. Решили выходить, рассчитывая, что когда солнце подымется, туман рассеется. По карте определили азимут на южный берег Баргузинского залива и пошли по морскому компасу. Плыли в каком-то густом белом мареве. Ни зги не видно! Когда ты прекрасно осведомлён, что под килем 1500 м и в любой момент яхту может торпедировать какое-нибудь бревно, принесённое сюда ветром и гуляющее само по себе, и мы можем оказаться в холодной пучине вдали от берегов, то самочувствие, скажу я вам, ниже нуля – оторопь берёт. Руководствуясь принципом «бережёного бог бережёт», мы надули резиновую лодку и поместили её на крышу рубки. Кроме этого Юра надел на ручку газа специальный удлинитель, что дало возможность управлять яхтой стоя на корме и иметь обзор вблизи носовой части. Под монотонный гул мотора плывём долго. На подходе к Баргузинскому заливу туман как-то враз рассеялся, видимо, его прогнал отсюда небольшой ветер – баргузин. Над заливом голубело небо, небольшие волны рябили воду. Справа показался посёлок Максимиха. Мы причалили к небольшому домику на берегу, стоявшему как-то особняком. Здесь жила Ирма Худякова – тоже талантливая художница, тоже жертва сталинских репрессий, с которой Юра сидел в одном лагере. Они с мужем Володей уже пенсионеры. Володя без руки, но успешно рыбачил в заливе и летом и зимой. Ирма была очень рада нашей встрече. На ужин испекла большой вкусный пирог с сигом, и мы его уговорили под «чымырыс». Каждый раз Юра брал в поход пятилитровую канистру жидкости весьма приличной градусности, именуемой «чымырыс». Почему он её так назвал, я в своё время как-то не удосужился выяснить, а потому теперь и не могу объяснить. Знаю только, что это спирт фирмы «сучок», разведенный до 50º и облагороженный рижским бальзамом или коньяком. Разве без такого стратегического напитка может быть серьёзное путешествие? Потом Ирма показала свои картины. Я был особенно восхищён четырьмя её полотнами. Картины написаны с одного места, один и этот же пейзаж, но всё это было написано в разное время года: весна, лето, осень и зима. Потрясающе! На следующий день мы взяли курс на полуостров Святой Нос и вдоль его берега пошли на север. Всё побережье полуострова усеяно брёвнами с разбитых ветрами плотов, корягами, сучьями, корой и прочим хламом в два этажа. Под вечер зашли в Чивыркуйский залив и направились прямо к горячему источнику. К счастью, дикарей-туристов здесь не оказалось. На крохотном возвышенном полуострове, где с трудом можно разместить две палатки, был горячий сероводородный источник с температурой воды около 45º С. Источник обрамлён срубом, как колодец, есть скамейка. Залазишь, садишься, вода доходит до груди, греешься минут десять и вылезаешь. Мы по очереди приняли лечебную ванну и, вернувшись немного назад, зашли в небольшую уютную, защищённую от всех ветров бухту Фертик. Натянули палатку, собрали дров, я принялся готовить ужин, а Юра с Виктором, свесив меж колен руки, сидели на бревне у костра. Я занимался всё время кухней не потому, что Юра не умел готовить или не хотел. Мы с ним относимся к той категории мужчин, которые умеют делать всё, что умеет любая женщина – плюс всё то, чего она не умеет. Просто я щадил его растрескавшиеся пальцы и ладони, и мокрая работа вызывала боль и усугубляла их состояние. А Виктора к кухне мы не допускали – что он сварит, не будет есть самая голодная свинья. Дни проходили как-то незаметно, каждый занимался тем, чем хотел – незабываемое времяпрепровождение и неописуемо счастливые дни. Юра, как обычно, после завтрака брал мольберт и уходил писать этюды. А мы с Виктором ловили в заливе удочками рыбу или шли собирать грибы в прибрежном лесу. Под вечер ежедневно плыли поблаженствовать в горячем источнике, а на обратном пути ставили на ночь сети. Уловы были весьма скромные, но рыбное блюдо у нас было ежедневно. Но время не резиновое, и пришла пора покидать это сказочное место. Утро возвестило нам о наступлении великолепного дня, и мы покинули бухту Фертик, вышли из Чивыркуйского залива и, обогнув мыс Верхнее Изголовье, направились к Большому Ушканьему острову. В этом районе много нерпы – то тут, то там из воды показывались их чёрные усатые головки, но близко не подпускали и скрывались под водой, не оставляя на поверхности воды никаких разводов. Берега Большого Ушканьего острова усеяны камнями и галькой белого цвета – это белый мрамор. Мы насобирали красивой с прожилками гальки для художественных поделок и отчалили. Далее наш маршрут лежал на противоположный (свой) берег в бухту Покойники, где мы собирались заночевать. Мерно гудел мотор, но он нисколько не раздражал, как нынешняя роковая и уголовно-блатная ревущая или бухтящая музыка, от которой теперь нигде не спрячешься! И какое это счастье находиться среди природы-украшения, природы-целительницы в одиночестве и тиши, слушая только тихий шелест байкальской волны о береговую гальку да плачущие крики чаек вдалеке – это многого стоит. Байкал был тихим и каким-то умиротворённым, но мы чувствовали его пульс – он дышал ровно, а грудь моря едва вздымалась отголосками утихшего шторма. В бухте Покойники мы переночевали и пошли на юг вдоль побережья. Потихоньку начал дуть верховик, набирая силу, крепчал, и мы подняли оба паруса – грот и стаксель. Мотор молчал, выполняя только функцию кормила. И нас подхватило попутным ветром – только волны плескались в борта, лобзая чеканные уста бурятки, что Юра приклепал на носу яхты. Настроение наше поднялось далеко выше нуля – душа пела! Проплывая мимо небольшого заливчика, в который впадал ручей, мы увидели медведя, бродившего по берегу в поисках чего-нибудь съедобного. «Фоторужьё» с длиннофокусным объективом 300 мм у меня было под рукой, я дал знак Юре, чтоб он направил яхту ближе к берегу, и пока мишка заворожённо смотрел на эдакое доселе невиданное чудо, плывущее по воде, я успел «отстрелять» несколько кадров. Так появилась эта фотография самого хозяина байкальской тайги. Последняя наша ночёвка была в бухте Песчаной, где мы спали в яхте, как все водоплавающие, на мягком ложе байкальской волны. Целый день плавания – и вот мимо нас проплывает посёлок Листвянка, Лимнологический институт и мы входим в исток Ангары, проходим мимо легендарного Шаман-камня, и скоро нас встречает уже залитая лучами заходящего солнца Большая Речка. Встреча всегда приятней, чем расставание. Послесловие У меня сохранилось в памяти очарование от первого знакомства с Байкалом в 1959 году, и оно не покидало меня никогда, а только усиливалось увиденным в последующем. Байкал впечатляет, сколько раз с ним ни общайся. За свою жизнь я немало протопал в «зелёном море тайги» и видел много прекрасного в природе, чего невозможно забыть, но безмерно счастлив тем, что ходил и по голубым водам Байкала – вдоль и поперёк. Юрий Андреевич Панов, который очень любил Байкал и увековечил его в своих многочисленных этюдах и картинах, ушёл из жизни в 2008 году в возрасте 86 лет. Похоронен в посёлке Большая Речка. Большереченская земля его когда-то приютила, дала возможность общаться с окружающей природой и Байкалом, а это многого стоит – она его и упокоила. На могильном камне, привезённом им с берегов Байкала, собственноручно высечено: «Я жил, я был, я исчез как дым»
Тэги: |














