
90 лет назад родился Олег Табаков. Он стал выдающимся актером театра и кино, талантливым режиссером и вдумчивым педагогом, который подготовил не одно поколение...

«Американские горки» российской истории.

Исполнилось 100 лет со дня рождения писателя Юрия Трифонова.
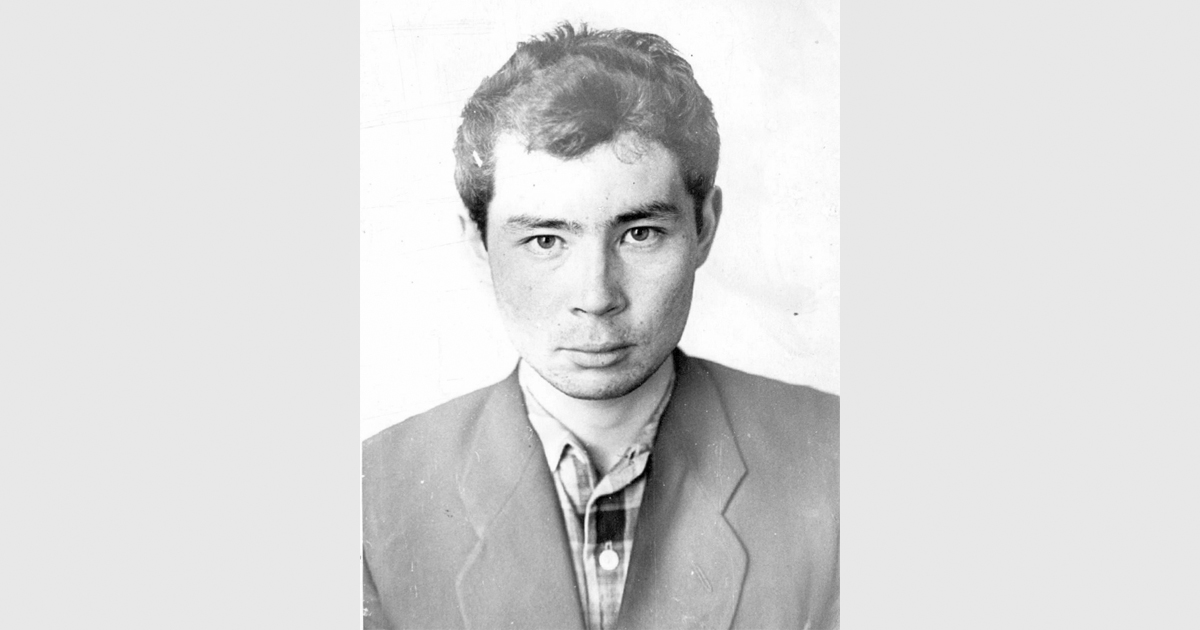
Его день рождения – на днях (19 августа). И хотя цифра 88 выглядит внушительно, он для всех и навсегда остался молодым…

«Демократия – это когда у людей есть возможность голосовать», – заявил в ходе одного из недавних брифингов российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Звучит вроде бы убедительно: и вправду, ну какая демократия без голосования? Но при ближайшем рассмотрении выходит, что характеристика неточная и...
"Байкальские повести" (часть 3) |
| 01 Мая 2012 г. |
|
МЫ НИКОГДА УЖЕ НЕ БУДЕМ МОЛОДЫМИ…Повесть О чем я хотел написать эту повесть, сотканную из событий давно минувших дней?.. Честно говоря, я сам не знаю этого. Наверное, о том ощущении щенячьего восторга, охватывающего тебя в младые лета, когда отважно устремляешься ко всему новому, неизведанному и, порой, весьма опасному. Еще не ведая о том, как болезненны потом бывают раны, как необратимы последствия… Конечно, и об этом мне хотелось написать. Но главной моей целью, скорее всего, было желание передать неведомому читателю те ощущения, те настроения своих героев о том, как всем им вместе когда-то было хорошо! Так может быть в повести, хотя, увы, почти никогда не бывает в жизни. А может быть, меня просто прельщала магия слов, способная оставить всех, хотя бы на бумаге, молодыми, красивыми, полными светлых надежд? Или я хотел написать о том неясном, необъяснимом чувстве зарождающейся любви, которая возникает порою из весьма противоречивых и сложных чувств? А может быть, я силился рассказать об облагораживающем нас общении с дивной природой, такой терпеливой по отношению к человеку? О подводных чудесах и о чем-то еще таком, едва уловимом. Чему и слов-то на земле пока еще нет. Признаюсь честно, ответов на эти вопросы я не знаю, неведомый мой читатель…
Моим друзьям – ушедшим и живым
Я проснулся от того, что кончик носа совсем замерз… В небольшое квадратное оконце вагончика-балка сочился призрачный свет крупных ярких звезд, густо усыпавших своими голубоватыми «льдинками» бархатную черноту небесного шатра. Яркий острый серповидный месяц словно чуть покачивался в этой глубине, радуя окрестности своей цыплячьей желтизной… В квадрате окна и этот веселый месяц, и томные мигающие звезды, и бездонная чернота небесного купола походили на бесхитростную, но прекрасную картинку, исполненную простодушным, безыскусным богомазом. В неясном, блеклом свете ночи я все же сумел разглядеть, что шляпки гвоздей, – с внутренней стороны стен нашего вагончика и у входной двери в тамбур, – от пола до потолка весело искрились инеем. И в этом полумраке они почему-то представились озорно глядящими на мир глазенками добродушных и любопытных зверушек… «Где-то около шести, наверное, – подумал я. – Часа два еще можно поспать. Если, конечно, кого-то холод не поднимет раньше». Во время общего пробуждения обычно начиналась недолгая и незлобивая перебранка о том, кому растапливать печь. И если таковой герой выискивался, – все остальные еще минут пятнадцать продолжали лежать в спальниках, ожидая прихода в вагончик благодатного тепла, наплывающего от печки плавной волной сверху вниз. Почувствовав его, обитатели балка начинали весело подшучивать друг над другом и надо всем на свете, что только попадало им на зуб. Правда, если дежурные были назначены заранее, то вопрос создания тепла и готовки завтрака автоматически отпадал. Причем, обычно назначалось двое дежурных, в обязанности которых входило еще и содержание в порядке нашего жилья, хождение за молоком и хлебом в деревню и многие другие повседневные мелочи. Я вспомнил, что нынче вместе с Давыдовым дежурю я. И это обстоятельство одновременно слегка огорчило и успокоило меня, поскольку Давыдов, ориентируясь по каким-то своим биологическим часам, всегда вставал первым, хотя в обычное время его бывает не так-то просто растормошить. Я взглянул на светящийся зеленоватыми точками циферблат наручных часов, которые достал из-под подушки. Было четыре часа ночи с минутами. Положив часы на прежнее место, перевернувшись на бок и с приятностию потянувшись, я приготовился опять сладко заснуть, думая одновременно и о том, какой теплый у меня спальник и о том, что к утру вагончик выстудит окончательно. Так, с этими двумя – теплой и холодной – мыслями, укрывшись с головой, я стал погружаться в приятную дрему… Вдруг, как мне показалось, прямо подо мной, раздался резкий, сухой, как выстрел пушки, звук! Я выскочил из спальника, наверное, быстрее, чем это сделал бы самый тренированный солдат, поднятый по боевой тревоге. Головой я при этом, конечно же, ударился о верхнюю полку, на которой кто-то заворочался (спросонья я не мог сразу вспомнить, кто именно) и недовольно пробурчал: «Да спи ты, блин! Это термоклин…» Все еще туго соображая, я сделал в темноте шаг по направлению к двери и тут же смел со стола что-то, издавшее громкий звук (скорее всего, эмалированную чашку или кружку) и отскочившее по полу куда-то в угол. На второй верхней полке, расположенной параллельно первой, негромко захихикали… Не понимая, что происходит, я замер в темноте столбом, чтобы никого больше не разбудить и ничего не перевернуть. Хотя, судя по веселому перешептыванию и отнюдь не лестным в мой адрес словам, все, кроме Давыдова, со стороны которого доносился легкий храпоток, уже проснулись. Сам же я испытывал такое ощущение, будто на крыльях сна мгновенно был перенесен со льда Байкала в полуденный час в Петропавловскую крепость Санкт-Петербурга, где в это время раздается звук пушечного выстрела, который потом гулким эхом разносится по всему городу. Впоследствии я узнал, что явление термоклина, происходящее из-за разности температур, – плюсовой, воды и минусовой, воздуха, – способно разорвать лед даже метровой толщины. Процесс этот сопровождается оглушительным звуком. Правда, если трещина не сквозная, лед на несколько сантиметров в стороны расходится тихо, с характерным шуршанием разрываемой шелковой ткани. Немного постояв в холодной темноте, к которой глаза уже начали чуть-чуть привыкать, я стал осторожно, мимо Давыдова, спящего прямо на полу в полураскрытом спальнике, в котором угадывались хорошо только белые полосы его неизменной тельняшки, пробираться к своему лежбищу, наглядно убедившись, что выражение «не разбудишь и из пушки» никакое не преувеличение, во всяком случае, по отношению к моему коллеге. Я улегся на свой рундук, но уснуть сразу, как все остальные, что угадывалось по наступившей опять тишине, не мог. Через некоторое время высунул голову из спальника и огляделся. Очертания предметов и спящих людей были неясными и как бы слегка размытыми по краям, будто обведенные более светлой, чем они сами, словно слегка пульсирующей, неширокой световой сероватой полосой. А тишина казалась живой и упругой. И отчего-то было так таинственно, словно через неведомую мне доселе щелку я заглянул за некую невидимую грань, по ту сторону которой непременно случаются различные чудеса. Причем, только счастливые. «Рано… Надо еще вздремнуть. Тем более, что завод «гидробудильника» пока не критический. А значит, как минимум еще час ничто не будет принуждать к подъему. Все, сплю…», – с тихой радостью подумал я, прислушиваясь к спокойной тишине и пытаясь перевернуться на бок. Но… мой очень теплый, собачьим мехом внутрь, спальник, покрытый сверху прочной «непродуваемой» материей, примерз боком к стене вагончика, стесняя тем самым движения. Однако более удобную позу я все же нашел и вновь, как в теплые воды Гольфстрима, нырнул в него с головой. Несильный и даже почему-то приятный, слегка нашатырный запах собачьей шерсти ощущался сквозь плотную ткань вкладыша, который я натянул по самую макушку. Внутри спальника было совсем тихо, тепло и мягко. «Лежу, как в люльке или коконе», – подумалось мне. И то и другое сравнение не раздражало, а наоборот, даже вызывало некую забытую детскую радость своей защищенностью и покоем, замкнутостью пространства и самодостаточностью своей, казалось бы, никак не зависящей от внешнего мира… Кто же нынче первым не выдержит и выскочит пулей из спальника в обжигающе-колючий холод насквозь промерзшего за ночь вагончика, включит газовый обогреватель или, того лучше, раньше дежурных затопит нашу железную печурку, обложенную по бокам и со стороны задней стенки кирпичами? Они плотно удерживались металлическим каркасом с крупными квадратами из толстой проволоки, приваренным прямо к печке. В эту решетку, как в карманы, мы и вставляли кирпичи. По четыре с боков и четыре сзади. Тем самым увеличивая и полезную площадь печи сверху, на боковую ширину кирпичей, и – ее теплоотдачу. Печка, конечно, раскочегарится не сразу, но зато тепло от нее стойкое и приятное. И она не жрет так жадно, как горящий газ, кислород. Рядом с печью у нас стояла еще и газовая плита. Она была значительно выше нее, но как и та, тоже находилась напротив тамбура. И когда надо было сготовить что-то по-быстрому, мы пользовались ею, хотя от нее всегда немного попахивало газом и она почти совсем не давала тепла. Этот наш «камбуз» был отделен от жилого отсека деревянной перегородкой, доходящей до одной из верхних спальных полок и разделяющей тем самым вагончик на две неравные части: небольшую – хозяйственную и жилую – с рундуками для различного оборудования, служащими одновременно и нижними спальными местами, с длинным столом, идущим вдоль этих самых рундуков, которые во время обеда служили сиденьями. Над столом было квадратное оконце, а под столешницей, почти у самого пола, – газовый обогреватель. За разделяющей перегородкой находилось еще одно, такое же небольшое, квадратное окно, не видимое из жилого сектора, особенно с нижней полки, поскольку оно располагалось за выступом тамбура. Под этим окном на двух полках напротив печей, на расстоянии вытянутой руки, покоились экспедиционные чашки, кружки, ложки. Висела большая поварешка… Вдруг все качнулось! Я даже вначале не смог определить, произошло это во сне или наяву. На полке тонко, тревожно и жалобно как-то звякнула посуда, и я уже явственно почувствовал, как наш вагончик начал медленно сдвигаться куда-то вбок. «Проваливаемся под лед! – мелькнула ужасающая мысль. – А глубина под нами не меньше сотни метров! И до берега метров триста…» Я, уже второй раз за ночь, выскочил из спальника словно выстреленная из распахнутого кокона куколка, на лету почти попав ногами в стоящие у моего рундука валенки, заметив при этом, что ни спальника Давыдова, ни его самого на полу нет. И уже на бегу, столкнувшись с кем-то в неширокой внутренней двери тамбура, успел заметить, как медленно, будто маятник Фуко, раскачивается на своем гвозде наша поварешка и висевшая рядом с ней на длинной ручке большущая сковородка «для тридцати яиц». Их раскачивание в бледном свете окна немного успокоило меня, поскольку говорило о том, что мы пока что не падаем отвесно вниз. Уже на льду кроме валенок и шапки я больше ничего на себе не обнаружил, не считая того, в чем обычно спал, поскольку в тамбуре, где между двух дверей: внутренней и наружной, располагалась наша вешалка, просто не успел, подпираемый кем-то сзади, сдернуть с крючка свою куртку, оказавшись в своем любимом теплом белоснежном шерстяном белье, которое здесь на льду не казалось таким уж теплым, да и белоснежным оно, пожалуй, тоже давно уже не было. Рядом с собой я узрел еще нескольких так же «изысканно одетых джентльменов». Кто был в шапке, шубе и тапочках на высовывающихся из-под этого скорого одеяния синюшных ногах. А кто – даже в майке, трусах и валенках. Кто-то, завернутый до глаз в верблюжье одеяло, по-моему, стоя продолжал еще спать. Между тем колючий, как растопорщенный ежик, морозный ветерок совершенно привел меня в чувство, и я, еще ничего не осознав как следует, вдруг захохотал, хватаясь за живот, от созерцания этой живописной картины, напоминающей одновременно и «Письмо запорожцев турецкому султану» и «Бегство французов из Москвы в 1812 году». Смех мой волной стал перекатываться от одного к другому, а наш общий – пожалуй, достиг другого берега Байкала. Но меня просто согнуло от хохота дугой, когда Коля Давыдов, чем-то неуловимо похожий на добродушного медведя, с жердиной в руках показался из-за вагончика и загудел своим низким хрипловатым голосом: — Ну, чего вы переполошились?.. Он был в валенках, старой ондатровой шапке с болтающимися ушами, толстенном китайском голубоватом нижнем белье и шубе нараспашку. — Это я вагончик малость стронул, чтобы полоз в трещину не попал, – объяснил он. И только тут мы обратили внимание на то, что рядом с полозьями вагончика из металлического уголка появилась еще очень узенькая, с острыми краями, пока еще не сквозная, а оттого и сухая, трещина, берущая свое начало неизвестно где и тянущаяся к недалекому берегу. Было такое впечатление, что кто-то очень сильный, для которого километр – лишь малая единица масштаба, огромным циркулем прочертил эту светлую полосу, раздвинувшую лед, и уходящую, может быть, к середине Байкала по темной полировке льда. Трещины и трещинки, напоминающие то глубокие морщины на челе, то веселые морщинки возле глаз, на байкальском льду совсем не редкость. И, как правило, они никакой опасности не представляют, поскольку крайне редко бывают шире десяти – пятнадцати сантиметров на поверхности, уходя вниз клином и зачастую не достигая воды. Такие трещины потом заносит снегом, который в них плотно утрамбовывают время и ветер. Если же у мороза хватает ярости и силы распороть лед на всю его немалую толщину, – вода, выдавливаясь снизу, быстро залечит этот изъян, заполнив образовавшееся пространство, которое, словно темя младенца, вскоре быстро зарастает. И на глади льда образуется немного выпуклый, не всегда гладкий, а, напротив, почти всегда слегка шероховатый на ощупь «шрам». И если в такой трещине окажется какой-нибудь предмет, – он вмерзнет в нее намертво и останется там до весны. До сырого, игольчатого, серого, слегка колышущегося, опасного майского льда. На всякий случай мы все же решили развернуть вагончик так, чтобы он стоял не вдоль, а поперек трещины. Причем, немного в отдалении. Наши бестолковые усилия, с клацающими от холода зубами, хотя многие уже успели накинуть на себя еще кое-что, с бесконечным подсказыванием друг другу, что делать в данный момент и кому, особым успехом не увенчались. Если, конечно, не считать успехом то, что от активных движений мы все хоть немного согрелись. — Мужики! Не мельтешите, – спокойным ровным голосом пророкотал Давыдов. – Я сам его передвину куда надо, пока вы все здесь, а не внутри. Лучше отойдите в сторонку, да отлейте пока. Лично я с радостью воспринял это предложение. Вполне охотно, по-моему, ко мне присоединились и другие. Видимо, момент, что называется, назрел. И уже через секунду в трещине с ее голубовато-зеленоватого цвета глянцевым разломом забурлило, запенилось от ряда упругих дружных струй нечто желтовато-янтарное… А Коля, сменив жердь на самую большую пешню, втыкая ее в лед возле нижнего полоза саней и упирая в выступающую и возвышающуюся сантиметров на двадцать верхнюю, более широкую, чем сани, окантовку вагончика, подталкивал раз за разом одну сторону нашего жилища, разворачивая его на девяносто градусов. После того, как вагончик встал как надо, мы все дружно, кто при помощи пешни, а кто толкая руками, уперев при этом ноги для первого рывка в заднюю грань трещины, оттолкнули его от нее примерно на метр. Из-за низового ветерка, когда казалось, что не только остатки тепла, но и атомы твоего тела улетучиваются в холодное пространство, в вагончике показалось даже тепло. «Вот уж действительно – все относительно». Но, тем не менее, все, как в спасательные шлюпки, забрались отогреваться до завтрака в свои уже немного выстывшие спальники. А Давыдов начал растапливать печь.
* * * По длинному и немного сумеречному коридору второго этажа Лимнологического института, по обеим сторонам которого располагались двери лабораторий, я не то чтобы шел, а беззвучно парил. Будто у меня вдруг выросли невидимые крылья. Мне было хорошо от собственной молодости, упругости движений, легкости шага!.. Даже влажность волос, которые я перед этим расчесал смоченной под краном расческой с крупными зубьями, в маленькой комнатке с большой буквой «М» на двери, у отражающего блеск солнца из окна старого туманного зеркала, прикрепленного над выщербленной раковиной, их золотистый блеск, вызывали во мне не только чувство гордости, но даже некого превосходства над многими скучными и необязательными для меня в этот час подробностями жизни. Двери многих лабораторий были распахнуты настежь, отчего мертвенно-бледный свет люминесцентных ламп в коридоре был размыт живым желтоватым солнечным светом, струящимся из окон лабораторий, выходящих на южную сторону здания, на Байкал. Если же двери комнат, расположенных напротив друг друга, были распахнуты одновременно, – сумеречный коридор перегораживал некий тоннельчик живого света, в котором плавали веселые пылинки. Проходя мимо очередной распахнутой двери и купаясь в янтарном свете дня, я ненадолго становился невольным свидетелем ведущихся в лабораториях разговоров и споров. Тем более, что темы их почти везде касались предстоящей первой зимней подледной экспедиции… — Да не могут губки расти глубже пятидесяти метров! – напирал чей-то ломкий тенорок. – Даже в самый солнечный день на такой глубине почти абсолютная темнота, так сказать, – вечная ночь… От слов «вечная ночь» – на меня словно бы повеяло могильным холодом. Уж больно зловеще они прозвучали. «Лаборатория планктона и бентоса», – констатирую я про себя, продолжая путь, и тут же забывая о «вечной тьме». Следующие два шага по коридору – «два взмаха упругих невидимых крыл», отрывающих подошвы от пола и приподнимающих меня над общей суетой. — …Голомянка должна зависать в толще воды не горизонтально, а вертикально. Причем, вниз головой! Я это прямо-таки своим нутром чую… — А если предположить, что?.. — Да никаких если! – обрывает своего оппонента уверенный до самоуверенности голос. – Голомянка, вы поймите, не обычная рыбка, а живородящая! Поэтому и поведение у нее должно быть необычное. Это же элементарно, коллеги! Как то, что функцию рождает потребность. «Ихтиологи». Еще два шага. «О! Это уже что-то новенькое». Притормаживаю, опускаясь на землю. — …И самое главное, что акванавт, потерявший ориентировку, не может вынырнуть где придется. Лед метровой толщины прозрачным панцирем отделяет его от воздуха. А головой ледок такой не пробьешь, – с виноватой улыбкой, словно именно он и будет тем самым акванавтом, потерявшим ориентировку подо льдом, рисует мрачную картину человек невысокого роста и мощного телосложения. Неуловимо напоминает одновременно старинный комод и небольшого квадратного, но только уже по вертикали, бегемотика. Его большая и, казалось, очень тяжелая голова, в темных завитках волос которой проблескивала седина, была словно якорем придавлена к груди тоже мелко кучерявой черной квадратной бородой. И борода эта тем самым напрочь лишала его шеи. «Такой-то головой и добротную крепостную стену, как тараном, наверняка прошибить можно, не то что лед», – мелькает у меня мимоходная мысль. Поскольку «конструкция» «якориста» оставляла впечатление чего-то грубо, но очень прочно сработанного. Хотя я никак не могу понять, для чего это нужно, чуть ли не на ощупь отыскивать выдолбленную лунку, поскольку твердо усвоил из «теоретического курса водолазных работ», что аквалангист при работе подо льдом всегда (!) и в обязательном порядке (!) страхуется капроновым линем, как раз для того, чтобы при всплытии он мог спокойно найти обратную дорогу. Более того, акванавт может подавать сигналы наверх, дергая веревку определенное количество раз, поскольку второй ее конец находится в руках у страхующего, следящего за подаваемыми из-под воды сигналами. Не менее точно я знал и то, что подводные байкальские каньоны вообще еще никто никогда не обследовал. Значит, сей негативный опыт не мог быть приобретен практически и является чисто гипотетическим. В открытую дверь я увидел, что якориста, небрежно подпирающего спиной в свитере грубой вязки стену рядом с дверным проемом, восторженно, широко распахнув глаза, обрамленные густыми длинными ресницами, чем-то отдаленно напоминающими крылья бабочки, слушает, забыв, по-видимому, после очередного восклицания: «О-о!» закрыть рот, совсем юная лаборантка. Чашки Петри на ее столе в сей миг также были напрочь забыты. «О! – тоже мысленно восклицаю я. – Да здесь идет элементарный охмуреж. А я уж было напугался…» Впоследствии я узнал, что бородач – первоклассный водолаз. И что он долгое время работал в Арктике, в зоне битого льда и припая, изучая повадки белых медведей, так что его рассуждения о ледовом плене вполне могли быть отчасти не только гипотетическими.
* * * Действительно, о первой «зимней подводной комплексной экспедиции» в Лимнологическом институте говорили охотно, много и повсюду. В лабораториях и коридорах, на лестничных площадках – в «местах для курения» и в «экспериментальных мастерских», где по индивидуальным чертежам сваривали наш металлический «дом», предназначавшийся для работы под водой. В обычном понимании слова это, конечно же, был не совсем дом, и даже – совсем не дом, а некое металлическое сооружение, не то квадратной, не то ромбовидной, не то еще какой неправильной формы, со множеством иллюминаторов. Вход в дом в виде обычной квадратной дыры находился снизу. Сооружение это должно было быть установлено на одной из маленьких террасок (данные летних подводных исследований), на глубине пятнадцати метров в подводном каньоне. Впоследствии этот каньон был назван Жилище. Название это ему дали мы – группа участников той подводно-подледной экспедиции, да еще по аналогии, поскольку каньон этот продолжал ниже уровня воды одноименную падь, расположенную недалеко от деревни Большие Коты, что притулилась в следующей некогда золотоносной и более широкой пади, или по-местному – распадке, прямо на берегу Байкала. Летом по пади Жилище весело журчит не то очень большой ручей, не то очень маленькая речушка, исчезающая зимой под большими перинными снегами, а летом – при впадении в Байкал, в прибрежной гальке на берегу, уже доступном волнам. Подводный же каньон, в отличие от неспешно поднимающейся в горы пади, круто уходит вниз. И уже метрах в трехстах от берега и от невидимого впадения в Великое озеро этого безымянного ручья, тем не менее внесшего все же и свою посильную лепту в могучесть сибирского озера-моря, заканчивается «Провалом», отвесно уходящей вниз, в черную глубину, приблизительно на километр, скальной стеной. В состав экспедиции должны были войти: биологи, физики, палеолимнологи, геоморфологи, профессиональные водолазы… Интерес к ней был велик, и поэтому желающих принять в ней участие было значительно больше, чем ожидалось и чем требовалось. О том, кому же, собственно говоря, быть этими самыми «счастливчиками», и должен был сейчас идти разговор в конференц-зале института, куда я направлял свои стопы, а вернее – свой легкий «полет». Общими усилиями были выработаны основные условия отбора «для зачисления в команду». Первое из них гласило: в экспедиции не должно быть более семи человек основного состава, не считая начальника экспедиции Вадима Кержаковича Ромашкина (эта должность была утверждена заранее ученым советом института), который будет приезжать время от времени на лед «для координации действий». Семь человек, не более, требовалось и для реализации научной программы. К тому же, в вопрос численности экспедиции вмешался и чисто бытовой элемент – спальных мест в жилом балке, который должен был находиться прямо на льду, было только четыре. Еще четыре места в двух маленьких комнатках на берегу любезно выделяла институту биостанция университета, находящаяся в Котах. Одно из этих мест было резервным для начальника Ромашкина. Три оставшиеся – для членов экспедиции. Второй пункт отбора гласил: нужны конкретные специалисты, вписывающиеся в конкретную же научную программу. И третье, что являлось несомненно определяющим пунктом отбора: человек должен в совершенстве не только знать устройство акваланга, но и уметь пользоваться им. Более того, желательно, чтобы уже имелся какой-то опыт работы под водой. А если нет – человек должен был хотя бы пройти спецстажировку, имитирующую погружения на различных глубинах, в институтской барокамере. Такие занятия с соискателями в преддверии экспедиции проводились под руководством опытных водолазных инструкторов. Людей, отвечающих всем этим требованиям, оказалось не так уж много, но все-таки больше, чем того требовалось для укомплектования команды. Тогда был введен еще один отборочный критерий – половой. Решили включать в состав экспедиции, естественно рассматривая все обоснования и предварительные заявки, направляемые в секретариат заранее, только лиц «мужеского пола». — Так они будут меньше отвлекаться на посторонние дела, – сказал в заключение своей речи ученый секретарь института Вась Вась (Василий Васильевич) Черепанов, который и проводил это отборочное собрание. – А приготовить обед они себе и сами сумеют. Тем более, что запас продуктов для экспедиции подготовлен достаточный, газовая плита имеется. В общем, все в порядке! – оптимистично закончил он. Научные дамы – женщины в большинстве своем энергичные, поскольку в меньшинстве своем замужние – усмотрели в этом отборочном пункте дискриминацию по половому признаку и шумно начали высказывать свое возмущение, доказывая, что значимость получения уникальных научных материалов должна быть выше половых различий. Но убедить ученого секретаря, представляющего на собрании руководство института, в том, что этот последний пункт необходимо отменить, им все же так и не удалось. Я идеально подходил для экспедиции по двум определяющим из трех основных. «А» – был мужского пола (объективно). К тому же: молод, весел, здоров и недурен собой (последний оценочный критерий – мнение знакомых девушек). И, «Б» – имел гидробиологическую тематику: «Дыхательная функция байкальских амфипод на различных глубинах», которая идеально вписывалась в экспедиционные планы. А вот «опыта подводных исследований» не то чтобы «в зимних условиях», а и вообще, у меня, увы, не наблюдалось. Хотя я и прошел «углубленный спецкурс по теории и…», изучив досконально устройство акваланга и набрав определенное количество часов «погружений всухую», то есть – в барокамере. После таких погружений мною были сделаны два самоочевидных, впрочем, вывода, которые в дальнейшей моей работе под водой почти никак не пригодились. Вывод первый. После погружения на «глубины» ниже сорока метров (в барокамере создается давление, соответствующее заданной глубине) я зачастую, но не всегда (и это тоже интересно – почему?) испытывал глубинное опьянение, когда становится вдруг беспричинно весело и хочется просто от избытка чувств беспечно рассмеяться. Не говоря уже о самой нелепой шутке или обычных словах, которые и вообще вызывают целый каскад смеха. В такие минуты очень приятно быть в барокамере с кем-то – не одному. Тогда шуткам и веселью, кажется, вообще конца не будет. И ты, как и твой напарник, впрочем, тоже, просто катаешься (в прямом смысле этого слова, по матрасу, постеленному для тепла на «полу» барокамеры) от смеха. Особенным успехом в такие минуты почему-то пользовалось глупейшее стихотворение Самуила Маршака «Три храбреца». Причем накал веселья напрямую зависел еще и от количества «погружающихся». Чем их было больше (хотя для барокамеры наших размеров три человека – уже предел), тем веселие было безудержней. Как правило, я погружался вдвоем с Женей Путиловым, херувимоподобным мальчиком лет девятнадцати, с которым мы совсем недавно познакомились и который как раз и специализировался на этом стихотворении. После того, как стрелка его ручного манометра доходила до отметки сорок метров, он вполголоса и очень таинственно начинал декламировать: «Три храбреца…» (а если нас в барокамере было двое, он говорил: «Два храбреца…»), – и здесь уже в его слова врывался смех. — В одном тазу… – продолжал он, силясь при этом сам не рассмеяться и выразительно оглядывая наше убежище, словно оно и являлось тем самым тазом. Накат смеха, и его в том числе, как бы смывал уже последние слова, точнее слоги. — Пу-уу-сти-лись по морю в гро-зу… – продираясь сквозь него, все же продолжал упорствовать декламатор. Последнюю фразу: «Прочнее был бы старый таз – длиннее был бы мой рассказ» – ему удавалось выговорить крайне редко, поскольку безудержный хохот, накатывая на всех новой неудержимой волной, позволял ему внятно произнести лишь первые ее слоги. Причем голос у чтеца, как и у тебя самого, становился таким тоню-юю-сеньким, как у ли-ли-путика. И этот факт еще больше раззадоривал общее безудержное, казалось, веселье. Что же касается изменения тембра голоса, то это уже вывод второй. Дело в том, что при определенном давлении голос человека начинает меняться. И становится значительно звонче и выше его обычного, что в свою очередь изрядно веселит уже не только тех, кто находится внутри барокамеры, но и тех, кто снаружи – осуществляющих «погружение». И они по переговорному устройству то и дело задают тебе какие-нибудь нелепые, необязательные вопросы, слыша в ответ на них жизнерадостный веселый писк. А если наблюдатели заглядывают в иллюминатор и показывают тебе, скажем, оттопыренный большой палец руки, говорящий о том, что, мол, «Все в порядке!», «Все идет как надо», – то ты и вовсе не можешь удержаться от смеха. Поскольку и эти улыбающиеся за стеклом в кругах иллюминатора лица, и этот оттопыренный палец кажутся тебе ну просто до невероятности уморительными! Но… давление в камере постепенно снижается. Воздух становится менее вязким и плотным, уже почти неощутимым, обычным, одним словом. И все вокруг становится обыденным и не смешным, окрашенным в сероватые привычные тона стен барокамеры. Словно с тебя кто-то только что, причем внезапно, сдернул очки с розовыми стеклами. Вот это вдруг! Этот невидимый и неведомый переход из одного состояния в другое, из мира необычного – в обычный, всегда был удивителен и неожидан. Тем более, что у всех он, этот порог, еще и абсолютно разный. Говорят, что люди с крепкими нервами и сильной волей вообще могут не испытывать глубинного опьянения. Я даже как-то спросил об этом водолаза-инструктора Резинкова, как только вылез из круглой двери барокамеры на свет божий. На что он ответил мне в своей обычной манере – со всегдашней, свойственной ему иронической улыбкой. — Глубинное, а точнее азотное опьянение, дружище, – это скорее не физиологический фактор, а акт воли. А воля, как известно, – кратчайший путь к достижению любой цели. Ответ его мне понравился. И я его запомнил. — Итак! – возвращает меня к действительности из моих воспоминаний торжественный голос Вась Вася. – Водолаз-инструктор Николай Резинков, Лимнологический институт… Коля Резинков – профессиональный водолаз. Улыбчивый голубоглазый блондин, который в основном и проводил с сотрудниками института эти самые теоретические и «практические» занятия по водолазному делу. Ему тогда было, наверное, лет двадцать восемь – тридцать, и мне он поэтому казался уже достаточно взрослым. «Рокер Резинков», называли его коллеги за то, что он искренне верил в предопределенность каждого на этой земле и часто повторял: «Предначертание судеб уже написано, и мы не властны изменить его». Может быть, оттого, что верил в Рок, он и был до бесшабашности смел и одним из первых, если не самым первым, начинал подводные исследования на Байкале. Помню, как он поразил меня однажды после очередного своего погружения, чуть не стоившего ему жизни, когда на глубине в акваланге лопнул «легочник», процитировав наизусть текст из какого-то средневекового трактата: «Зачем боишься смерти? Не бессмертный ты человек, смертный, но без Рока смерти нет ни человеку, ни птице, ни зверю…» И когда он говорил это, я не заметил, чтобы он рисовался передо мной… или – перед собой. Он был просто не по обыкновению задумчив, не более того. Через двадцать лет после той экспедиции он, не дожив и до пятидесяти, спокойно, с улыбкой на губах, словно разгадав наконец какую-то давнюю, измучившую его тайну, умрет, сидя в кресле на балконе своего многоквартирного дома в Геленджике, «глядя» в сторону моря. «Понта Евксинского», как он его называл, не допив бокал с сухим красным вином, который так и остался на низком журнальном столике, стоящем рядом с раскладным креслом, в котором он сидел. На балконе его и обнаружила жена Настя («Ностальгия Ивановна»), пришедшая домой с работы чуть позже обычного… К ее приходу на бокал и вокруг него уже успели нападать горько-соленые брызги, срываемые ветром с гребней осенних темных волн и принесенные им же к дому, так близко стоящему к морю. Настя вызвала по телефону скорую помощь и врачи, прибывшие почти мгновенно, констатировали смерть, «наступившую не более часа назад в результате сердечной недостаточности». На сей раз Рок почему-то не позаботился перевести стрелки часов жены немножечко вперед и она опоздала, вернувшись домой позже обычного…
— Сударкин! Капитан обитаемой подводной лаборатории «Черномор», институт океанографии, Новороссийск. Игорь Сударкин – высокий, стройный, лысый, с густыми длинными ресницами и с неистребимыми смешинками в теплых карих глазах, от которых в прищуре лучиками разбегались тонкие морщинки. Профессиональный водолаз. Работающий то на Черном, то на Белом, то на Балтийском морях. И живущий поэтому со своей «ва-а-сточной» женой Ануш и двумя дочерьми («в бабьем царстве»), то в Новороссийске, то в Геленджике, то в Таллине, то в Петрозаводске… Их кочевая семья никогда нигде подолгу не задерживалась. И наверное поэтому в квартире – на антресолях, «в темнушке», в коридоре, а то и просто где-нибудь в углу комнаты, почти всегда стояли нераспакованные картонные коробки с каким-нибудь «неповседневным скарбом». От этого казалось, что они, как маленькая стайка перелетных птиц, во главе со своим вожаком вот-вот снова снимутся с места для того, чтобы улететь вновь в какие-нибудь неведомые еще дали. Я как-то спросил Игоря, будучи у него в гостях в Таллине, уже после нашей экспедиции, где мы все так сдружились, чего ему не сидится на месте и он кочует по разным морям? Ведь, в принципе-то, везде одно и то же. Та же соленая вода… Ну чуточку больше, ну чуточку меньше – какая разница? То ли дело Байкал – прозрачное пресное море! На мой необязательный вопрос за чашкой очень раннего крепкого кофе, когда все семейство Игоря еще почивало, а мы беседовали на кухне, он ответил весьма серьезно, словно сотни раз сам себя спрашивал об этом. — Понимаешь, морская вода – это ведь не просто соленая водица. Это соленость наших слез, нашего пота… Например, соленость воды Белого моря составляет тридцать пять промилле. То есть она такая же, как и у нас в крови. По сути – это физиологический раствор, который можно при случае вливать людям внутривенно. А костный мозг, выработав красные кровяные шарики, уже сам превратит этот раствор в полноценную кровь. Выходит, что моря – это кровь планеты. И частица моря есть в каждом из живущих на Земле. Разные моря, к тому же, омывают разные страны. Поэтому на берегу моря ты ощущаешь свободу от границ, даже никуда не выезжая. Конечно, самое идеальное – жить на берегу океана, который омывает уже целые континенты, в отличие от Байкала, омывающего лишь свои берега. И в ущемлении свободы я, кстати, чувствую его могучий нрав. По его силе – Байкалу мало простора. Особенно теперь, когда построены все эти плотины, замкнувшие отвратительными тромбами вольный ход его вод к океану: через Ангару, Енисей, Карское море… И, конечно же, Байкал себя еще покажет. Он обязательно раздвинет берега и станет тем, чем ему надлежит быть по праву – океаном. Но, к сожалению, это еще будет так не скоро, если брать за единицу отсчета человеческую жизнь. А я уже сейчас хочу жить на берегу безбрежья, хотя бы для того, чтобы знать что, в принципе, я могу из своей точки достичь любого места на нашей милой маленькой планете… И вот теперь семейная «стайка» Игоря с уже взрослыми дочерьми действительно перелетела через океан, осев пока в Штатах. Чем там занимаются дочери Игоря – не знаю. Его жена Ануш наверняка, как и прежде, занимается домом. Игорь же какое-то время работал таксистом в Нью-Йорке, а теперь добывает морепродукты для прибрежных ресторанов. Он имеет свое небольшое суденышко и свой большой дом, в котором, впрочем, проводит не так уж много времени. А маленький городок, в котором они теперь живут, расположен на побережье Тихого океана. Я не знаю, распаковало ли теперь их семейство все свои коробки, в том числе и с «неповседневными вещами», или они так же стоят в разных углах их дома, в котором мне, пожалуй, вряд ли когда случится побывать, ибо я, увы, птица не перелетная. Небезынтересно и то, что и Резинков и Сударкин родом из весьма сухопутного города Харькова. Их отцы занимали там на знаменитом ХТЗ – Харьковском тракторном заводе – весьма солидные посты и, кажется, даже были хорошо знакомы… Но это уже к нашей истории никакого отношения не имеет.
— Мурахвери! Институт биологии моря, Владивосток, – с прежним мажорным напором, перекрывая легкий фоновый шум зала, продолжает учсек. Им оказался тот самый якорист, который во время моего парения по коридору так беззастенчиво, но романтично врал юной лаборантке о неисчислимых и немыслимых опасностях, на каждом шагу подстерегающих водолаза, словно тот добровольно и исключительно ради укрепления своей нервной системы предпринимает эксперименты, аналогичные ежедневному гулянию по минному полю. О Саше Мурахвери я знал только то, что он, по утверждению многих, отличный семьянин (или «первый оператор стиральной машинки», как он сам себя частенько называл) и специалист по моллюскам. В то время он со своей семьей, состоящей, кроме него самого, еще из жены и малолетнего, а вернее – маломесячного, ибо их первенцу не было тогда и года, сына, – жил в Котах. В той самой деревеньке, куда и направлялась наша экспедиция. Их квартира из двух комнат и кухни располагалась в прекрасном бревенчатом доме, стоящем на пологом склоне горы среди высоких стройных сосен. Жена Александра, Светлана Чаплыгина, была в свое время участницей нашумевшего подводного эксперимента «Черномор», попав в эту экспедицию после водолазных курсов, которые она прошла в своем родном городе Курске. Но, то ли курсы в ее лишенном моря городе были так себе, то ли что-то там не заладилось в самой программе по обживанию подводной лаборатории… Одним словом, из экспедиции она привезла домой кессонную болезнь (из-за чего и вынуждена была вернуться раньше срока), тоску по Черному морю и непонятные еще и ей самой ощущения и воспоминания о настойчивых ухаживаниях тогда еще не отпустившего бороду Александра. Он с удивительной легкостью теплыми, ласковыми южными вечерами рассказывал ей об Атлантиде, которую собирался найти, Японском море, Тихом океане, где ему доводилось бывать, и городе Владивостоке, раскинувшемся на сопках, «на краю географии», возле благодатной бухты Золотой Рог, где Саша тогда жил… Надо сказать, что эти воспоминания были ей приятны, хотя и мимолетны почти до ненатуральности. «Кессонка» же была дана ей в реальных ощущениях в виде эпизодических болей в коленях, усиливающихся особенно в непогоду. Что, в свою очередь, делало обычное хождение весьма необычным, неприятным и даже изнурительным занятием. И если случался дождь (а дожди в то лето были очень частыми), то эти блуждающие несильные боли почти автоматически напоминали Светлане о Черном море, коренастом темноволосом кучерявом Александре и… о никогда не виденном ею Тихом океане. Воспоминания немного как бы утишали боль. И тогда, сидя в кресле за вязанием (после «кессонки» она привыкла больше сидеть, чем ходить), она начинала о чем-нибудь мечтать… Или читала целыми днями своего любимого Грина. Тоже Александра. В один из таких пасмурных, печальных предосенних дней, когда лето уже смирилось со своим поражением, ей пришло первое письмо из Владивостока. Светлане даже показалось, что шелестящие белые страницы хорошей бумаги, на которой красивым почерком черной тушью оно было написано, пропитаны солнечным светом и солью неведомых ей доныне морей. А потом письма стали приходить еще и еще… Все чаще и чаще… Обычно на одно ее – сухопутно-суховатое, приходило два или даже три Сашиных, как она стала его незаметно мысленно называть. Письма приходили из разных городов. Общее в них было лишь то, что города эти находились возле моря, где Саша был участником какой-нибудь очередной подводной экспедиции. Незаметно писем скопилась целая коробка из-под праздничных, давно, впрочем, изношенных туфель, с которой Светлана, как со своим самым ценным и почти единственным приданым и приехала однажды «на разведку» с простой дорожной сумкой на Байкал. В эту маленькую милую деревеньку со странным названием Большие Коты, которая со всеми ее местными жителями была вроде придатка биологической станции Иркутского госуниверситета и где уже находился в «долгосрочной командировке, чтобы быть на полконтинента ближе к ней», как писал в одном из своих писем, Александр. Казалось, он вообще мог мыслить лишь континентами, морями, океанами… Поэтому и Байкал, который Светлане очень понравился, Александр иронично называл не иначе как озерком областного масштаба. Правда впоследствии оказалось, что почти все рассказы, которые, как правило, велись от первого лица, оказались значительно интереснее самого рассказчика. Но, видно, таковы уж законы жанра, а точнее – жизни, которая любит, особенно в младые лета, увлечь нас красивыми грезами, потом вдруг представ перед нами во всей своей прозаической обыденности и неприглядности… А Света была молода. Да к тому же еще любила Грина – тоже Александра, то есть – сказки. А сказки, как известно, труднее всего прививаются к древу жизни… Она так и осталась в Котах с тем минимумом вещей (ибо много ли их может уместиться в простой дорожной сумке средних размеров), которые она привезла с собой, завороженная Байкалом, его величавой мудрой простотой и убаюкивающими рассказами Александра о его многочисленных путешествиях. Поразило Светлану и обилие солнца, а также приятно удивила безалаберная веселость студентов-биологов, проходивших в Котах свою ежегодную летнюю практику. Они каждый день, даже понедельник, старались сделать незабываемым, неповторимым праздником! Единственным, что неприятной тучкой слегка как бы закрывало от Светы обилие яркого света и таких же ярких красок лета, было то, что большинство «студиоз-биолухов», как называл их Саша, были, собственно говоря, биологинями. Даже вернее было бы сказать – «биобогинями» в древнегреческом понимании этой сущности, поскольку почти все они без исключения были молодыми красивыми, стройными, беззаботно-веселыми, с золотистым сибирским загаром, девушками. И среди них Светлана уже не чувствовала своей исключительности, которую своими письмами сумел внушить ей Александр. Тогда-то она окончательно и решила остаться (дабы не подвергать Сашу непосильному искушению) в этом добротном, с почерневшими от времени и солнца бревнами доме, на углу которого Александр однажды приколотил светлую продолговатую, из оцинкованной жести, пластинку, на которой черной краской готическим шрифтом сам же и вывел: «Набережная Жака-Ива Кусто, дом 1». В конце августа «карнавал» внезапно прекратился. Студиозы все той же веселой разноцветной ватагой со своими рюкзаками, гитарами, дорожными сумками с последним пароходом отбыли в город, к месту учебы… Деревенька сразу как бы сузилась, уменьшилась в размерах, притихла, присмирела, опустела и словно притаилась до следующего лета. На ее улицах, где ранее бродили веселые шумные компании студентов, вдруг обозначились коровы, овцы, козы, какие-то беспородные, но нахальные собачонки и иногда – гордые породистые «промысловые» лайки. А немного погодя над густо поседевшими за ночь гольцами печально закурлыкали журавли, устремляя клин стаи на юг. А затем как-то тихо и печально целый день шел снег, окрасивший землю и крыши домов в белый праздничный цвет, да так и не стаявший потом. И в деревне вдруг стало тихо, чисто, просторно (словно она раздвинулась вширь) и сонно, как в тщательно прибранном полупустом доме. И это неспешное состояние понравилось Светлане еще больше безумно-веселого лета. У нее неожиданно появилось чисто женское желание – обуютить свое казенное жилище. И она с молодым задором начала «вить гнездо» в тех двух комнатах (с окнами на Байкал) и кухне (с окном на белый ровный пологий склон с разлапистой древней сосной посередине), которые были предоставлены им биостанцией в большом, состоящем из четырех подобных квартир, доме. И который теперь на три четверти был пуст. Так, лишние вещи вместе с перевязанной шпагатом коробкой писем были сначала перемещены в темный чуланчик при кухне, а потом и на чердак дома (временно, только на зиму), ибо вскорости должно было понадобиться дополнительное место для коляски и кроватки первенца, который по всем расчетам явит себя миру ранней весной. Когда на склоне за домом появятся проталины и желтые, пушистые, как цыплята, подснежники. Через несколько лет, когда Саша со Светой и их, наверное уже пятигодовалым, первенцем переедут во Владивосток, кто-то из любопытных студиоз, шныряющих летом в Котах повсюду и в самых неожиданных местах, неведомо зачем забравшись на чердак, найдет там в углу на балке, соединяющей стропила, цветную, покрытую изрядным слоем пыли, картонную коробку с письмами, высвеченную таинственным янтарным лучом света, падающим наклонно в небольшое отверстие выпавшего из доски на фронтоне дома сучка, с кружащимися в нем золотинками беспечных пылинок… И студенты, и работники биостанции потом все лето будут читать эти, невесть как попадающие в их руки, письма. Оставив на время чтение романов Стендаля и Проспера Мериме, пользующихся особой популярностью в местной библиотеке, расположенной в малюсеньком сельском клубе, в котором раньше показывали кино… Я знаю, что кое-кто попытался даже собрать все письма воедино, в хронологическом порядке. Но эта попытка, насколько мне известно, никому не удалась, поскольку письма безвозвратно разбрелись по рукам, как по неизвестным адресатам. Одно из них попало как-то и ко мне. И я тоже не хотел с ним расставаться, потому что в письме этом было столько (так мало ныне встречаемых) искренней нежности и чистоты, что… Но это вновь уже совсем другая история. О Свете же с Сашей в дальнейшем я знаю только то, что во Владивостоке они получили прекрасную большую светлую квартиру «с видом на океан», как писал в Геленджик Резинкову Александр. Которую они потом, после развода (о чем уже никто никому не писал, но все тем не менее всеми как-то узналось), обменяли на две двухкомнатные в блочных бетонных безликих домах обычных спальных районов, откуда до моря, как и до центра города, где они жили до того в добротном кирпичном доме, нужно было долго ехать на скучном и дребезжащем старом трамвае. И теперь из окон их квартир были видны такие же однообразные и серые дома, да вечно переполненные мусорные баки. — Карабанов! Палеолимнолог, институт Земной коры, Иркутск. Юрий Карабанов – плотный молодой человек выше среднего роста, в джинсовом костюме. Людей такого типа женщины обычно называют «обаяшка». Он был одновременно похож на лихого ковбоя времен освоения Дикого Запада, и – Иванушку-дурачка. Хотя точнее все же будет сказать, что он был похож на умного Иванушку-дурачка, переодетого ковбоем. Когда бы я ни встречал его, у меня всегда было такое ощущение, что он только что сошел с обложки очередного не очень консервативного яркого журнала, описывающего будни молодых, из хороших семей, всегда модно, изящно одетых и приветливых ученых. Однако, несмотря на его всегдашнюю добродушную и даже слегка простоватую улыбку, отчего-то создавалось впечатление, что ему невыносимо скучно и в этой науке и в этой жизни. Словно он не нашел свое, только ему предназначенное место. Его первая жена Татьяна была довольно известная в нашем городе спортивная журналистка, и в прошлом сама очень хорошая гимнастка, стройная блондинка и почти красавица. Ей очень нравилось, когда за ней ухаживали мужчины. Но еще больше ей нравилось, если Юрий ее при этом ревновал. За год с небольшим совместной жизни детьми они так и не обзавелись, поскольку Татьяна считала их лишней обузой, мешающей жить в свое удовольствие… Его вторая жена, Наталья, была красавицей уже без почти и тоже блондинкой. Более высокая, но менее стройная, чем первая избранница. Ее отец занимал какой-то весьма высокий пост в сфере торговли и их семья жила поэтому в очень престижном «кривом» (названном так, наверное, из-за его архитектурной изогнутости) доме в самом центре города. Наталья была веселой, хлебосольной и очень любила выпить в хорошей компании, а впоследствии – и без оной… Она родила Юрию сына, «чтобы отвязался», как она говорила, и не отвлекал ее от различных шумных и порою весьма разношерстных компашек, которые она любила собирать по любому поводу… Третью жену Юрий отыскал уже не в родном городе, а вывез откуда-то с берегов Черного моря. Эта «кубанская казачка» – довольно приятная высокая брюнетка, красавицей уже почти не была. Зато она, по-видимому, хорошо знала, чего ей, собственно говоря, от жизни надо. При встрече с ней ощущение того, что она очень прочно стоит на ногах, всегда только усиливалось. Тем более, что сделать это ей было совсем несложно при ее отнюдь не золушкином размере ноги. И глядя на ее немалого размера обувь, я сразу почему-то так и слышал хруст позвонков «никчемных мужиков», попавших под ее острый каблук. При сравнении всех трех жен Юрия неоспоримым становился тот факт, что его устремления по отношению к ним были наглядно направлены ввысь, то есть по вертикали, поскольку каждая последующая его дама сердца была выше, а, может быть, просто длиннее предыдущей минимум сантиметров на пять. И если бы Юрий не остановился, то следующую свою избранницу ему пришлось бы подыскивать уже в каком-нибудь баскетбольном клубе… Света, а именно так звали третью жену Юрия, в отличие от первой, никогда не подтрунивала над научной деятельностью мужа, а, следовательно, и не упрекала его в постоянном безденежье, ибо второе – лишь следствие первого. И не любила шумных застолий, как жена вторая. Она сразу, одного за другим, родила двух сыновей. Эдаких шкод-крепышей. И выкормив их грудью и немного подрастив, – когда уже стало ясно, что не только дети без родителей, но и родители без детей обойтись не могут, – укатила с ними обратно на Черное море. Оставив Юрия одного, в тиши огромной недавно полученной квартиры, выстраивать свою дальнейшую научную карьеру на Байкале. Объяснив свой внезапный отъезд немногочисленным знакомым, появившимся у нее, очень просто: «В Сибири слишком холодно для детишек». Может быть, именно поэтому Юрий, несколько лет до этого мотавшийся между Иркутском и Сочи, уже после своей блестящей защиты диссертации перебрался вместе с семьей в какое-то захолустье на юге Соединенных Штатов Америки, заключив контракт с тамошним второсортным университетом на проведение каких-то экспериментальных работ. Но, несмотря на довольно выгодный, казалось бы, контракт, попервости в Америке им пришлось довольно туго. Для того, чтобы там жить, не отставая от соседей, Юрию приходилось порою подрабатывать на разгрузке контейнеров, где в основном работали негры. После близкого общения с ними он стал, по его словам, убежденным расистом. Однако после того, как он сделал несколько великолепных докладов на международных конференциях, которые затем в виде тезисов опубликовали ведущие научные журналы Америки, благосостояние их семьи резко улучшилось. Но тут, как пружина из-под прохудившейся обивки дивана, выскочила другая проблема. Дети почти разучились говорить по-русски. И Света с ними, не дожидаясь окончания контракта супруга, опять вернулась в Сочи. А он стал теперь мотаться между Америкой, Черным морем и Сибирью, где с его родителями жил старший сын от второго брака Денис. Объективности ради следует сказать, что карьера, да в общем-то и личная жизнь Юрия все время шли по восходящей. И тем удивительнее было видеть, что необъяснимая грусть его глаз постепенно переросла в тоску и опустилась до губ. И он все реже теперь улыбался. А на мой вопрос (когда мы в очередной раз встретились в Иркутске): «Как жизнь?» устало ответил: «Слишком суетна». Другой же мой приятель, художник, кажется, никуда и никогда дальше Байкала не выезжавший и неизвестно на что и как существующий, числящийся по общему мнению в неудачниках, на этот же вопрос с искренней улыбкой ответил: «Удалась!» И я по-хорошему тогда позавидовал ему.
— Путилов! Студент-дипломник госуниверситета. Имеет опыт работы под водой. Тема диплома: «Динамика подводных течений»… Путилов Женя – белокурый, ангелоподобный, розовощекий, хрупкий мальчик с мягко спадающими на грубый водолазный свитер из верблюжьей шерсти вьющимися волосами и лучистым взглядом. После экспедиции мы редко встречались. И могли не видеться годами… И вот недавно я узнал, что он умер. Причем от той же самой болезни, что и Александр Македонский. То есть от чрезмерного употребления алкоголя. Фактически он замерз в каком-то чужом подъезде, совершенно опустившийся и никому не нужный, кроме своей матери. И в этом бомжового вида человеке неопределенного возраста, со скатавшимися серыми жесткими волосами, с культяшками некогда отмороженных, и тоже по-пьянке, пальцев рук, вряд ли бы кто, кроме матери, мог узнать того светловолосого хрупкого мальчика, каким впервые увидел его я и каким его задумала природа.
— Николай Давыдов! Механик, профессиональный водолаз. Коля Давыдов, единственный из всей экспедиции местный житель поселка Листвянка, неподалеку от которого в свое время и располагался Лимнологический институт, впоследствии переместившийся в новое здание в Иркутске. Он же – Лом, Шкаф, Медведь, Квадрат, Никдав – за глаза. Человек неторопливый, терпеливый, спокойный. Обладающий недюжинной силой. На нем водолазные свитера даже самых больших размеров всегда сидели в обтяжку, а не болтались свободно, как на других. Говорил он вдумчиво, с расстановкой, словно пробуя каждое слово на зуб: на вкус и на прочность. Прочность же его собственной конструкции сомнений не вызывала, словно он не был вылеплен матушкой-природой из некоего непрочного материала, как все остальные, а сразу был отлит из металла. Так, например, когда я в шутку ударял его в грудь кулаком, у меня всегда возникало два абсолютно противоположных чувства. Первое – если ударить посильнее, от души, то наверняка отшибешь руку, будто ты бьешь в монолитную скалу. И второе – мне казалось, что его грудная клетка тут же загудит, отзовется на удар, точно за нею скрыто неизмеримое, огромное, почти космическое пространство. Он был немного выше среднего роста. С русыми, слегка даже рыжеватыми, вьющимися по концам, волосами. А его с легким прищуром глаза смотрели на мир простодушно и любознательно. Достаточно увесистую пешню, которыми мы выдалбливали лунки во льду, он держал обычно одной, а не двумя, как другие, рукой. Будто бы это была барабанная палочка, а не толстый березовый черенок с тяжелым острым металлическим наконечником. Когда же он разбирал свой акваланг, раскладывая детали на чистой белой тряпице или возился, что-то там регулируя, в моторе нашей автономной электростанции своими перемазанными в машинном масле сарделечного вида пальцами, то и вообще казалось невероятным, как этот человек умудряется такими неуклюжими «инструментами» работать порою с очень мелкими детальками. И почему эти детали тут же не рассыпаются в прах, побывав в тисках его могучих рук. А то, что его руки могут напоминать слесарные тиски или что-то вроде того, я убедился на личном опыте, обменявшись с ним в начале нашего знакомства раза два рукопожатиями и почувствовав, что моя ладонь словно попала в медвежий капкан. Впоследствии я такой процедуры старался избегать, ограничиваясь бодрым: «Привет!» и взмахом руки. Ибо Николай не нарочно сжимал твою руку до боли, а просто не соизмерял своей силы. Почему-то вспомнилось сейчас, как однажды Коля всех нас удивил. Но уже не своей силой, к проявлениям которой все довольно быстро привыкли, а другим… Как-то после ужина в вагончике зашел разговор о вере, Боге, различных конфессиях, научном обосновании веры… Разумеется, все зашли в тупик, пытаясь совместить несовместимое: веру и науку, и словами выразить то, что можно только чувствовать. Резинков, что-то доказывающий приехавшему к нам на лед начальнику экспедиции Ромашкину и пытавшийся свести воедино буддизм, православие и науку, видимо, убедившись в тщетности своих попыток и немного ерничая, сказал: «Ладно, давай у народа спросим, – он кивнул в сторону Давыдова. – Как говорится: «Глас народа – глас Божий». Мы с тобой друг друга все равно ни в чем не убедим, а только еще больше запутаемся во всех этих торсионных полях, вакууме, из ничего создающем Нечто, о дыхании Божием, именуемом душою». — Коля! – усилив голос, обратился он к Давыдову, возившемуся в другом конце вагончика под яркой лампой со своим аквалангом, не принимая участия в общей дискуссии, – как ты думаешь, есть Бог или нет? Никдав слегка отстранил от себя акваланг, придерживая его одной рукой, распрямил спину (все уже внутренне приготовились рассмеяться от незатейливого Колина ответа, ожидая, что он отморозит что-нибудь эдакое) и спокойно сказал: — Я не знаю есть ли Там что-то, – его указательный палец был направлен в потолок, – я только знаю, что должно быть. Иначе человеческая жизнь бессмысленна. Ведь не для того же мы рождаемся, чтобы спустя какое-то время умереть… Он подтянул к себе акваланг и вновь занялся им в образовавшейся вдруг необычной тишине.
Николай до сих пор живет там же, в Листвянке. Женился на медсестре Тане из местной больнички. У них трое детей – два мальчика и девочка. Иногда я, правда с годами все реже и реже, заезжаю к ним, в их бестолково шумный дом. В котором среди настоящего «броуновского движения» молекул-детей всегда неизменно спокойным остается сам хозяин, порой напоминающий скалу, вокруг которой, подобно морским волнам, бурлит, кипит неуничтожимая, неутихающая жизнь. Коля все так же, как в былые времена нашей первой молодости, нетороплив, рассудителен, все еще необычайно силен (хотя бывает, что и его прихватывает радикулит – ни согнуться, ни разогнуться). И даже внешне он вроде бы совсем не изменился. Только вот слегка рыжеватые прежде волосы стали теперь совсем седыми на висках да на чубе.
* * * «Ну вот, шесть человек уже назвали… Осталась последняя кандидатура… Не суждено мне, видимо, попасть в эту «великолепную семерку», – начинаю я мысленно паниковать. И все становится вдруг безразличным. И этот глухо гудящий, словно растревоженный улей, зал. И яркое солнце за окном, падающее на широкий подоконник веселым светом, сбоку от длинных желтых штор. — Стажер-исследователь Лимнологического института. Ветров!.. — Игорь! – почему-то голосом Карабанова продолжает ученый секретарь. И совсем уже странное добавляет: – Ну, хватит дрыхнуть. Вставай! Резинков тебе уже выписывает командировку на дно каньона! Кто-то тормошит меня за плечо. «Неужели я заснул прямо в конференц-зале?!», – ужасаюсь я. Открываю глаза и вижу залитый утренним желтым солнечным светом вагончик, уже прогретый раскаленной печуркой, от кирпичей которой идет приятное тепло. Вижу своих друзей (у кого спину, у кого лицо), сидящих вдоль длинного стола. Чувствую такой приятный и бодрящий запах кофе… Вытягиваю шею и вдруг слышу дружный веселый смех, который у окружающих вызывает моя всклокоченная шевелюра, появившаяся из недр спальника. Я по-быстрому умываюсь. Кто-то уже позаботился и налил в умывальник теплой воды. Причесываюсь у малюсенького зеркальца, висящего рядом с умывальником, и тоже сажусь за стол. Резинков подает мне кружку кофе, потом кладет руку на мое плечо и с пафосом (у него никогда не поймешь, шутит он или нет) говорит: «Сегодня, мой мальчик, ты увидишь лед с обратной стороны. Постарайся запомнить этот день и свои ощущения в нем. Это будет твой драгоценный опыт открытия нового в окружающем мире и в самом себе». Мы пьем кофе с черным хлебом, маслом и сыром, на который сверху еще положены прозрачные кружочки лука. Завтрак проходит в обычном режиме шуток, смеха, дружелюбной пикировки друг с другом. И только мои зудящие мысли после «тронной речи» Резинкова все еще не дают мне войти в это привычное состояние всеобщего добродушия и веселья. «Ну, к чему это он? Вот это: «Мой мальчик» и все такое прочее. Прямо отец родной. А ведь не так уж намного старше меня. Лет на пять – семь, наверное. Правда, намного опытнее в водолазном деле», – всплывает откуда-то из неведомых глубин сознания усмиряющая мое легкое раздражение мысль. «Мой-то подводный опыт действительно пока еще нулевой». И я уже вместе со всеми шучу и радуюсь шуткам и смеюсь, как другие, искренне и весело, прощая «старику Резинкову» его речугу. И так нам всем вместе хорошо! И так все это странно. «Все еще так молоды, беззаботны, веселы, красивы… Все живы еще… Может быть, я просто продолжаю спать?..»
* * * На следующий день после укомплектования «команды» почти все участники экспедиции «Каньон» собрались для знакомства друг с другом и обсуждения плана работ в просторном и тихом теперь, с пустыми рядами кресел, конференц-зале. Нас было семь человек. И вот-вот должен был подойти начальник экспедиции, который где-то задерживался. «Великолепная семерка», как уже успели «окрестить» нас в институте. Великолепная ли? Это еще предстояло доказать. И, прежде всего, самим себе. Назавтра, – после знакомства и обсуждения плана работ, – мы занялись упаковкой необходимых вещей и оборудования. А еще через день, загрузив все это в кузова двух институтских машин, в яркий солнечный февральский день выехали из Листвянки в Большие Коты, до которых напрямую, по льду, было не больше двадцати километров. Я полулежал на матрасе у правого борта грузовика и, когда тот начал съезжать с дороги на прозрачный почти до невидимости байкальский лед, почувствовал в спине некий озноб. И мне непроизвольно захотелось тут же выпрыгнуть из кузова. Казалось, что тяжелая груженая машина, медленно съезжающая с дороги, а точнее, сворачивающая на ледовую, тут же ухнет под эту тонкую, хрупкую, ненадежную «пленку», разделяющую воду и воздух. Но… прошла минута, другая… Пять, десять минут, а машины одна за другой, все так же монотонно гудя моторами, неспешно и даже как-то убаюкивающе катили по льду. И за ветровым стеклом кабины второй машины, следующей за нами, я видел спокойные улыбающиеся лица двух моих коллег и шофера. Они о чем-то оживленно говорили. Я тоже постепенно привык к этой езде «по воде», хотя ехал по льду Байкала впервые… Примерно через полчаса мы прибыли на место, где уже стояли три вагончика, притащенные сюда накануне. Их полозья и прочертили нам дорогу по льду и кое-где в нанесенном на него ветром снегу. Чуть в отдалении от самого большого вагончика лежал на боку и наш подводный сварной «дом». Самый вместительный вагончик-балок должен был стать для нас и лабораторией, и жильем, и столовой одновременно. Самый маленький – предназначался для дизеля автономной электростанции. Это сооружение скорее напоминало очень большой сундук с небольшим оконцем над низкой дверью, чем, собственно говоря, полноценный экспедиционный вагончик. Третье наше строение, представляющее по размерам нечто промежуточное между электростанцией и жилым балком, было раскрашено большими черно-белыми квадратами (по четыре с каждой его стороны) и предназначалось для подводных погружений. По форме это был куб два на два метра с дверью, небольшим окошком и открывающимся в полу четырехугольным люком. Люк этот совмещался с лункой нужного размера, и она, в отличие от большой, наружной, два на два метра, в которую и был впоследствии опущен наш подводный дом, почти никогда не замерзала, а лишь схватывалась иногда, в особо морозные ночи, тонким ледком… Но… обе эти лунки еще только предстояло выдолбить, чем мы с Женей Путиловым и занялись, получив от Резинкова по пешне из наполовину уже разгруженного, пока что прямо на лед, груза. Коля несильными ударами пешни оконтурил размеры и места лунок и вновь вернулся к машине, а мы приступили к долбежу. Работенка эта, при тогдашней почти метровой толщине льда, скажу вам, не из легких. Иногда даже создавалось впечатление, что мы пытаемся очень примитивными орудиями труда выкрошить полутораметровый квадрат (начали мы с малой лунки) чуть ли не в бетонной стене. Так неохотно лед поддавался колке. А суть процесса, в общем-то, проста. В оконтуренном пространстве пешней раскрашиваешь лед, который потом, слой за слоем, по мере углубления, специальными «черпаками» – обычными совковыми лопатами с просверленными в них большими дырами, отчего они напоминают дуршлаг, выбрасываешь наружу. Кусочки льда разных размеров, падая на блестящий панцирь Байкала, позвякивали, как маленькие колокольчики, а потом, когда лед повлажнел, – от пробитых уже до воды пешнями дыр, в которые резко хлынула прозрачная, холодная, бурливая, слегка зеленоватая вода, быстро заполнившая все пространство уже почти выдолбленной лунки, – он только тихо шуршал, падая на кучу вынутого из лунки осколочного льда. Мы порядком подустали, пока выдолбили требуемых размеров майну и вычерпали уже плавающие в ней последние куски и кусочки льда. Еще раз нагнуться было тяжко, и позвоночник, казалось, гудел, как высоковольтные провода. Но гудеж этот был, надо сказать, каким-то жизнерадостным! И может быть от этого, глядя, как согнула наши спины работа, мы оба разом, с оханьем разогнувшись, вдруг весело и беспричинно рассмеялись. Усилиями всех, не такой уж, впрочем, тяжелый, и еще пустой водолазный вагончик был установлен на место. И выдолбленная нами майна оказалась теперь прямо под его люком. Все снова занялись своими делами, а мы с Женей приступили к долбежу второй «форточки» в метровом байкальском льду. Пока работали над ней, все остальные члены экспедиции полностью разгрузили машины, и они, развернувшись и пробуксовывая вначале на прозрачном, праздничном из-за веселых бликов солнечного света на нем, льду ушли обратно в Листвянку, для связи с которой нам был оставлен мотоцикл «Урал», тоже привезенный в кузове одной из них. Первые часы нашего пребывания на льду были заполнены работой, связанной с обустройством лагеря. Все хотелось сделать быстро, хорошо и засветло. Может быть, поэтому в обеденное время мы лишь наскоро перекусили бутербродами с чаем из термосов, привезенных с собой. Сразу же после этого «бутербродника» начали распаковывать необходимые вещи, определяя их по своим местам. На длинной ровной и гладкой жердине – «мачте», прикрепленной к торцу жилого вагончика, взвился самодельный, изготовленный еще в Листвянке, небольшой треугольный флаг, на белом фоне которого был нарисован оранжевый морской конек. А под ним полукругом готическим шрифтом коричневого цвета было выведено: «Dum spiro spero» – «Пока дышу – надеюсь». Флаг беззаботно трепетал на ветру в уже обозначившихся пока еще не таких густых сумерках. И даже не сумерках, а еще только едва наметившемся предвечерье. Первый день экспедиции подходил к концу… Проверили радиосвязь с берегом, поскольку некоторые из ее участников находились в лабораториях биостанции, устанавливая там свои приборы. Радиосвязь работала нормально, после чего и был объявлен общий сбор в лагере через час. Заработал движок нашей электростанции, разорвав такую плотную, как уже сгустившиеся за этот прошедший час сумерки, тишину. И звук движка тоже почему-то не был назойливым, а наоборот, казался веселым щебетом. А тут еще засветились окна жилого вагончика, которые, отражаясь янтарными квадратами, заблестели на льду. На мачте и над входом в жилой балок тоже зажглись огни, как-то карнавально освещая наш небольшой лагерь и островок ледового пространства возле него. И от этого новорожденного света шагать по льду к лагерю стало еще веселее. Игривый легкий ветерок раскачивал круг света от прикрытой сверху плоским металлическим плафоном лампы над дверью балка и взвихривал в освещенном пространстве тихо падающий редкий снежок. За гранью этого усеченного желтого конуса света темнота казалась еще плотнее и из темно-фиолетовой превращалась в черную. У меня было такое ощущение, что ветер радуется нашему прибытию в его доселе не обжитые никем владения, и именно в честь данного события исполняется легкий порхающий танец снежинок, кружащихся в постоянно движущемся по блестящему темному «паркету» льда круге и конусе света. Видимо, грустно было ему доселе одному гулять на этаких просторах!.. В вагончике уже топилась печь, и отблески огня от ее неплотно прикрытой дверцы весело прыгали по стенам и потолку в углу за перегородкой, тоже исполняя свою древнюю, но в то же время вечно новую юную пляску огня. На газовой плите рядом с печью, на которой в эмалированном ведре таял битый лед, Света заканчивала готовить ужин. В спальном отсеке кто-то включил магнитофон… «Все мои заботы и печали тонут в кубке крепкого вина! Трапезой нехитрою день кончаю, чтоб потом уйти в объятья сна…» – раздался голос одного из апостолов из такой модной тогда постановки «Иисус Христос – суперзвезда». — Правильно намекает, – поддержал кто-то мысль поющего. — Расставляйте тарелки, стаканы – все готово, – объявила Света. И я вдруг почувствовал, как устал и проголодался за этот первый экспедиционный день. А запах тушенки с луком и макаронами сделался таким желанным. — Принеси льда для шампанского, – обратился ко мне Резинков и передал не высокую, но широкую зеленую снаружи и светлую внутри эмалированную кастрюлю. Шампанское было припасено нами еще в Листвянке. И предназначалось для двух новоселий – надводного и подводного. Этот вопрос был также обсужден за день до прибытия на место. То есть, вчера. Хотя в это уже с трудом верилось, потому что казалось, что и институт с его чистеньким конференц-залом, и Листвянка, и вся моя более-менее комфортная городская жизнь отодвинулись куда-то уже очень далеко. Во всяком случае – не во вчера… После тепла вагончика на льду резко обдало холодом. Словно кто-то очень огромный вдруг заключил тебя в свои ледяные объятья. И от этой мысли здесь, в одиночестве, стало не по себе. Свет из двух окон вагончика, выходящих на эту сторону, янтарными квадратами лежал на льду у моих ног, частично захватывая и склон горки битого и тоже желтоватого льда возле большой спокойной черной майны с плавающими в ней голубыми льдинками звезд. За окном вагончика приглушенно звучали смех, музыка, слышались оживленные голоса, словно доносящиеся сюда очень издалека. Здесь же, на льду, лишь первобытность и первозданность. Я и ветер. И казалось, все это уже очень давно, с незапамятных времен, было со мной и во мне. И пребудет вечно, как это вот пространство с неясными, едва различимыми в темноте контурами близких гор, и этот холод и неуют и мое одиночество, словно я в один миг очутился на далекой, но смутно знакомой мне с детства планете. И даже не верится, что эти два таких разных мира отделяет друг от друга лишь тонкая, из двух слоев фанеры и утеплителя между ними, стена вагончика. Чуть в стороне от большой майны одиноко покоился на боку наш подводный дом, тускло поблескивающий иллюминаторами, словно большими добрыми наивными глазами, глядящими в звездное небо. Звезды же в двухметровом, более черном, чем купол неба, квадрате лунки слегка подкрашивали своим синевато-зеленоватым блеском эту страшную бездонную черноту воды. При легком ее колыхании от низового ветерка они на миг исчезали, будто гасли навсегда. И гаснущие в один миг звезды вселяли в душу цепенящий ужас. И я непроизвольно смотрел на небо, как бы убеждаясь, что там все в порядке. А эти исчезающие то и дело, заныривающие в майне их отражения напомнили мне о том, что может быть завтра и мне предстоит уходить в глубину… Мысль не была ни неожиданной, ни страшной, но и веселья в ней никакого я не обнаружил. Поэтому, отбросив как ненужный хлам подобные размышления, я принялся большим и тяжелым водолазным ножом отбивать уже смерзшиеся между собой осколки льда и пригоршнями ссыпать его в свою тару. Набрав полкастрюли небольших, поблескивающих от тусклого света звезд осколков льда, и уже достаточно продрогнув, я вбежал в вагончик. В шум, смех, тепло, к моим коллегам, а может быть и будущим друзьям. Тем более, что все уже сидели за столом и ждали только меня. Пока Света накладывала в чашки еду, две бутылки шампанского охлаждались посреди стола вместе с бутылкой спирта в кастрюле со льдом. Макароны с тушенкой парили перед каждым на столе, и Саша Мурахвери стал открывать первую бутылку шампанского. — Саня, давай, чтоб как у Пушкина: «Вошел и пробка в потолок!», – выразил кто-то пожелание, которое, пожалуй, соответствовало настрою многих. Но вместо этого пробка, со слабым шипом выйдя из бутылки, упала тут же на столе. — Фригидное шампанское, в прямом и переносном смысле, – пошутил Резинков и все дружно (кроме Светы), словно только того и ждали, рассмеялись. — Ну что, коллеги, – хорошо поставленным голосом, как на ученом совете, начал начальник экспедиции Ромашкин, встав и подняв свою зеленую эмалированную кружку с шампанским, – за наше новоселье на льду! Следующее уже будет подо льдом. Ко второму тосту большинство присутствующих предпочли вместо «холодного шампанского» «горячий» спирт. Так что вторая его бутылка так и осталась в кастрюле со льдом не раскупоренной, празднично блестя на горлышке серебристой фольгой.
* * * Я был абсолютно уверен в том, что наш металлический дом, который мы не без труда, надо сказать, подтащили к майне, камнем ухнет в воду, и никакие капроновые веревки, привязанные к специальным крепежным кольцам, приваренным по углам его «крыши», не удержат его. Но, как ни странно, все получилось как раз наоборот. Он вообще не хотел тонуть. Воздух, находящийся в нем, не давал дому погружаться. И он колыхался на поверхности воды, скребя своими углами края майны, и почему-то напоминал огромный, неправильной формы барабан. На этом примере я, пожалуй впервые, в действии и убедился в непоколебимых законах физики. Впоследствии же я не раз убеждался в том, что наши земные ощущения обманчивы и чаще всего не соответствуют реалиям мира подводного. Закон всемирного тяготения, такой непререкаемый и надежный на земле, ведет себя совсем иначе в гидрокосмосе по той простой причине, что вода в восемьдесят раз плотнее воздуха… Итак, наше нелепое сооружение колыхалось себе в проруби и все никак не хотело уходить под воду. Тогда в майну в «мокрых» гидрокостюмах, ластах и масках, но без аквалангов, что для меня было тоже странно и страшно, поскольку глубина представлялась все-таки агрессивной (только и ждущей, кого бы проглотить), а не инертно-ленивой, каковой была на самом деле, спустились два Николая – Давыдов и Резинков. Они открыли специальный вентиль на «крыше» нашего подводного жилища, и воздух, посвистывая и шипя, словно сердясь на кого-то, в огромной спешке стал вырываться наружу, а дом, направляемый Николаями, сначала медленно, нехотя (будто раздумывая о чем-то своем), а потом все быстрее и быстрее стал уходить под воду. И через некоторое время, как в крутом кипятке, исчез в буре пузырей, заполнивших пространство майны. Еще через минуту веревки, привязанные к нему и закрепленные металлическими штырями, вбитыми в лед, натянулись, а вода в проруби стала спокойной. Это означало, что дом опустился на полагающуюся ему пятнадцатиметровую глубину. О чем свидетельствовали и разноцветные метки на веревках. Синие, красные, черные – метровые, пяти- и десятиметровые соответственно. На глади вод, как две нерпячьих головы, в одинаковых черных мокрых шлемах с желтой полосой посередине, с поблескивающими на солнце стеклами масок и с длинными дыхательными трубками во рту, появились головы двух Николаев. — Все в порядке, – сказал Резинков уже стоя на льду и прерывисто дыша. За ним из майны, не так стремительно как он, а грузно, с обильно струящейся по черному гидрокостюму водой и оттого почему-то похожий своей поблескивающей гладкостью то ли на большое «отполированное» бревно-топляк, то ли на маленького китенка, вылез на лед и Давыдов. Сняв маски и ласты, они пошли переодеваться в сухое в водолазный вагончик, где Женя Путилов, судя по всему, уже вовсю раскочегарил (это было видно по обильному белому дыму, поднимающемуся из металлической трубы, торчащей над крышей водолазки, в голубое спокойное небо) маленькую железную печурку, стоящую в углу недалеко от входной двери на железном листе с загнутыми вверх в виде противня краями, а я лег на живот у края майны. То же сделали и те, кто находился здесь. Наверное, со стороны создавалось впечатление, что несколько человек, мучимых нестерпимой жаждой, припали наконец к живительному источнику. Однако здесь была «жажда» иного рода и, пожалуй, даже не жажда познания, а простое любопытство. Мы смотрели в этот огромный для нас и такой мизерный для Байкала «иллюминатор», проделанный нами во льду, вполне осознавая, впрочем, значимость этого отнюдь не ординарного события. Первый (и до сего времени пока что единственный) на Байкале подводный дом занял в каньоне свое, предназначенное ему место! Блестя иллюминаторами, он слегка раскачивался – на прочных и тонких капроновых веревках, белыми струнами уходящих от углов дома к углам майны – из стороны в сторону в спокойной прозрачной, казавшейся слегка зеленоватой воде, недалеко от небольшой расщелины в скале, склон которой был сплошь усеян «кустами» и «кустиками» разлапистых губок. И, может быть, это их ярко-зеленый цвет так подкрашивал воду. Дом, казалось, находился так близко от нас, что почти верилось – протяни руку и коснешься его… Солнечный свет в воде становился струящимся, бодрым, живым. И наш домик стоял внутри этой огромной прозрачно-янтарной четырехугольной колонны, имеющей свои четкие очертания и размеры, соответствующие размерам майны. Основание «колонны» стояло несколькими метрами ниже дома, на достаточно гладкой террасе скалы, куда подводными течениями каньона нанесло немного песка, и он белел и слегка золотился теперь в этом квадрате света. Веселые блики играли и на немного скошенной «крыше» нашего выкрашенного в белый цвет дома с единственным на ней верхним иллюминатором. Оттого же, что вода больше не пузырилась и была удивительно спокойной, она казалась иногда толстым многометровым стеклом. Лишь изредка небольшой прозрачный пузырь воздуха отрывался от, видимо не до конца закрученного, стравливающего вентиля и лениво устремлялся вверх. Достигнув поверхности воды, он лопался, озорно при этом булькнув. Но бульки эти были очень редкими… Теперь к нашему подводному дому – типа колокол – надлежало цепями снизу прикрепить металлическую корзину, опустив в нее сначала большой баллон со сжатым воздухом, при помощи которого через резиновую трубку будет постепенно, небольшими порциями в дом закачиваться воздух. Сначала совсем чуть-чуть, чтобы уравновесить груз самой корзины и баллона, а потом, когда в нее уложат балласт, – чугунные двадцатикилограммовые чушки – подкачку можно будет вести почти постоянно. По расчетам две тонны (сто чушек) должны были уравновесить заполненный воздухом дом. Груз предстояло переместить в корзину со льда, и я не без основания подозревал, что это «упражнение с отягощением» предстоит опять исполнить мне и Путилову, как «молодняку». Закреплять же корзину, принимать и укладывать балласт, подкачивать в дом воздух будут снова двое Николаев, греющихся и отдыхающих сейчас в водолазке.
* * * После обеда – мензурка спирта желающим, но только не тем, кто будет работать под водой, и пельмени, картонные коробки с которыми долгое время стояли у нас прямо на льду под вагончиком, пока одна из них, уже вскрытая, не опрокинулась в щель, образовавшуюся ночью (и на которые мы впоследствии просто перестали обращать внимание, потому что они образовывались, зарастали и образовывались вновь в разных местах нашего небольшого лагеря). И пельмени, до того звенящие, как ледяные колокольчики, когда их засыпаешь в кастрюлю, потеряли всякую свою ядреную привлекательность, высыпавшись и раскиснув за несколько часов пребывания в воде до такой неприличности, что выгребать их оттуда никто не захотел. Впоследствии мы стали хранить оставшиеся коробки с ними в уличном рундуке жилого вагончика, приделанного на санях сзади, к торцевой стенке, и который до этого был полностью забит дровами для печки. Вообще, в экспедиции пельмени были нашей основной, и притом весьма желанной пищей. И, как ни странно, они никому не приедались. Макароны, тушенка, различные каши – да. А пельмени – нет. Они всегда и всеми поглощались с охотой и в немалых количествах. Причем ели их, как правило, без бульона, а вернее, без той воды, в которой они кипятились, сдабривая кто горчицей, кто уксусом, кто майонезом, кто кетчупом. А то и тем, и другим, и третьим… Итак, после обеда, немного отдохнув, решили приступить к укладыванию балласта. Выполнение этой незатейливой процедуры – затягивание чушки веревочной петлей и опускание ее в воду принимающим, естественно, как я и предполагал, досталось нам с Путиловым, с которым мы должны были добросовестно исполнять какое-то время обязанности подъемных, а вернее, опускающих, если уж быть совершенно точным, механизмов средней, а может быть, и малой мощности. Принимающие уже облачались в водолазке в ярко-желтые с черным гидрокостюмы «Садко» сухого типа, ведь теперь они значительно дольше будут находиться под водой. Подвозить чушки на обычных детских санях к майне от места, где их разгрузили с машины, выпало Карабанову и Мурахвери. Общее руководство работ осуществлял, естественно, начэкс Ромашкин, который уже назавтра был намерен доложить руководству о том, что подводный дом установлен. Именно поэтому за ним сегодня вечером и должна была прийти институтская легковушка. Честно говоря, я был этому рад, поскольку вчера вынужден был уступить свое спальное место на нижнем рундуке ему как гостю, и отправился с Путиловым, уже по темноте, спать на берег, в непротопленные комнаты биостанцевского общежития, которые были выделены для нашей экспедиции, но… без дров. Дрова мы должны были привезти свои. Причем с запасом, чтобы они еще остались и после экспедиции. Таков был уговор. Поэтому прекрасную, настоящую деревенскую печь, своим белым боком выходящую в одну из двух наших комнат, нам просто нечем было протопить, да и некогда. Обещанные же Лимнологическим институтом для биостанции дрова Ромашкин еще только должен будет на днях отправить из Листвянки. Тех же, которые прибыли вместе с вагончиком в наружном рундуке, было не так уж много. Да мы к тому же попросту вчера, после новоселья, забыли захватить оттуда хотя бы по два полена… Но мало того, что переночевать нам пришлось в холодном, неприветливом от этого доме с окнами на гребень ближайшей к деревне скалы, почти отвесной стеной поднимающейся ввысь, мы еще наверняка пропустили и самое интересное – разговоры и воспоминания «героев бездны» – Резинкова и Сударкина, занимающих в вагончике верхние, теплые, привилегированные полки. Ромашкин с Карабановым – внизу. Давыдов на опускающемся между нижними рундуками столе (иногда он, правда, устраивался и прямо на полу, если лень было возиться с устройством лежбища). Мурахвери со Светланой откочевали к себе домой. Таков вот был вчера расклад, в прямом смысле этого слова. Поэтому-то я и радовался отбытию Ромашкина и готов был начать работу как можно скорее, чтобы быстрее ее и закончить. А он потом где надо пусть о том доложит. Надо сказать, что процесс заполнения корзины (железный каркас, обтянутый металлической сеткой) балластом особого интеллекта не требует, поэтому свои «недюжинные» умственные способности я мог направить куда угодно, пронзая мыслью, скажем, космическое пространство, и при этом почти автоматически выполняя однообразную работу. Нагнулся. Прикрепил чушку к капроновой веревке. Разогнулся. Подтянул ее к самому краю майны. Опять нагнулся, осторожно опуская груз в воду. Через некоторое время получил снизу сигнал, что веревка свободна. (Хотя в прозрачной воде все и без того было достаточно хорошо видно.) Разогнулся опять. Вытянул веревку, которая тут же обледеневает и сопротивляется поэтому прикреплению к ней очередной чугунной чушки. Нагнулся и… так далее и тому подобное – по пятьдесят раз каждый. Но вот балласт уложен. Дом закачан воздухом. Слегка провисшие веревки, удерживающие его до этого, отвязаны и вытащены из воды. Теперь при работе под водой будет где немного обогреться, поговорить, вынув изо рта загубник, сменить акваланг или, в случае необходимости, пройти декомпрессию. Сумерки, совсем еще несмелые, начали подкрадываться к ледовому зеркалу Байкала со стороны обступающих его со всех сторон гор. И в этих жиденьких, едва только ощущаемых, как иногда осень среди лета, сумерках, вдруг весело заблестели желтым светом далекие фары машины, стремительно приближающейся к нам в вихре снега, поднятого ею же. Когда она остановилась возле вагончика, по радио из ее салона прозвучали «сигналы точного времени» и бодрый голос диктора произнес: «В Москве полдень!», а еще более бодрый голос институтского шофера Васи в приоткрытую дверцу машины добавил: «Точность – вежливость королей!». С чем нельзя было не согласиться. И еще, обращенное уже только к Ромашкину: «Ну, что? Поедем?». «В столице день только начинается, – подумалось мне, – а у нас он уже подходит к концу…» Итак, в пять часов пополудни мы закончили в тот день работу. — Вы тут не очень-то завтра без меня новосельничайте, – напутствовал нас деланно строгим тоном Ромашкин, усаживаясь на переднее сиденье рядом с шофером. В салоне автомобиля после «блока рекламы» на радиостанции «Маяк» звучала приятная музыка. И через несколько минут автомобиль, на глазах уменьшаясь, скрылся из виду, исчезнув в завихривающейся за ним поземке и в еще более сузившемся круге обступающих наш лагерь и Байкал сумерек, все смелее спускающихся с гор. А через два часа мы, все оставшиеся, сидели в теплом вагончике за длинным столом, открыв недопитую вчера бутылку шампанского (спирт, как и шампанское – только желающим), и Света стала накладывать в наши вместительные эмалированные чашки гречневую кашу с тушенкой и луком. Из приемника, откуда-то издалека, тоже доносилась легкая ненавязчивая музыка, словно связывающая нас со всем остальным огромным миром. И почему-то казалось, что кто-то из очень далекой непроглядности космоса смотрит на нас всех очень добрыми умными глазами и видит одновременно не только каждого из нас, но и наш ледовый лагерь, домики которого с большой высоты, наверное, кажутся спичечными коробками, лежащими на льду, а живые отблески окон из них и того меньше…
* * * Подводное новоселье в наш третий экспедиционный день удалось на славу! Одетые в разноцветные гидрокостюмы люди представляли собой красочное зрелище среди преобладающего белого цвета, а их движения напоминали замысловатый, с частыми замираниями, ритуальный танец, полный скрытого для непосвященных значения и смысла. Кто-то, одевая ласты и смачивая в лунке ступню, балансировал попеременно то на одной, то на другой ноге, отвечая при этом шуткой на шутку или остротой на остроту. Кто-то брал в рот загубник акваланга и раскачиваясь делал контрольные шумные вдохи и выдохи. Кто-то, наклонившись над майной, зачерпывал маской воду и промывал стекло, чтобы оно потом не запотело. А кто-то, уже готовый к погружению, сидел на краю майны, опустив ноги в воду и болтал ими туда-сюда в ожидании общего погружения. Одним словом, все находилось в веселом движении и было как бы окутано невидимым облаком добродушия друг к другу, сдобренным тем не менее достаточно едкими порою шутками. Но вот Резинков, дурашливо подпрыгнув над водой и подтянув к животу ноги, булькнулся в воду, подняв при этом целый каскад холодных брызг. Через мгновение на еще не успокоившейся поверхности воды показалась его голова. И было видно, как за поблескивающим стеклом маски озорно смеются его глаза. Он взял с края лунки две бутылки шампанского (по одной в каждую руку) и теперь уже тихо, без лишних всплесков исчез под водой. Через какое-то время большой пузырь воздуха, всплыв из глубины, лопнул на поверхности, вновь слегка встревожив еще не совсем успокоившуюся гладь воды. Я заглянул в майну и увидел, как Резинков, плавно перебирая прогибающимися от сопротивления воды большими черными ластами типа «Дельфин», по конфигурации похожими на хвост кита, вниз головой уходит все глубже. А от его акваланга цепочкой с промежутком примерно в метр по косой линии к поверхности лунки поднимаются большие прозрачные пузыри воздуха. И пузыри эти, и фольга на бутылках шампанского слегка поблескивают от солнечного света, льющегося сверху. Плавно, прогнувшись в спине, Николай вплыл снизу в наш домик, в котором могло разместиться сразу не более трех человек. Вторым, с завязанным сверху прозрачным полиэтиленовым пакетом, в котором лежали стаканы и яблоки, под воду ушел Сударкин. И сразу же за ним – Давыдов. Я видел его широкую, в зеленом армейском гидрокостюме, спину и его довольно частые движения ногами (что было немного странно для всегда такого неторопливого Николая) и – отделяющиеся поэтому от его акваланга довольно частые, почти непрерывной цепочкой идущие вверх и более мелкие, чем у Сударкина, пузыри воздуха. Видел и Сударкина, плывущего, а вернее, почти парящего чуть ниже Давыдова, с пакетом в руке и черном, словно фрак, гидрокостюме. Он очень плавно, как бы даже лениво перебирал ногами, но скорость его при этом была нисколько не меньше, чем у Давыдова. И большие, прозрачные, похожие на шары воздушные пузыри, тоже не торопясь, с приличным интервалом между ними, тянулись от его акваланга к поверхности, где и встречались с бурливо-торопливыми Колиными. Через мгновение оба акванавта один за другим исчезли в домике. А еще через несколько секунд вода в майне успокоилась и с обычным равнодушием глядела теперь в небо. Но минут через пятнадцать она вновь ожила, и на ее поверхности показалась сначала рука с пустой бутылкой, а уж потом и голова Резинкова. И тут же вода в майне вновь забурлила от игривых пузырей, и на поверхности объявились Давыдов и Сударкин. Вынув загубники и сняв маски (Давыдову кто-то помог снять гидрошлем, сработанный заодно с маской), они втроем (буквой Г) облокотились о края лунки, как о край стола, и тут же Карабанов и Мурахвери поставили на лед перед каждым по стаканчику нашего фирменного экспедиционного коктейля, состоящего из спирта, который выдавался нам для протирки некоторых деталей акваланга, и брусничного сока, добытого из ягод, прибывших сюда в трехлитровых банках вместе с нами, из домашних запасов Давыдова. Соотношение спирта и сока бывало обычно шестьдесят к сорока. Иногда и семьдесят к тридцати, но… реже. Лицо Сударкина было спокойным и приветливым. Лицо Резинкова (особенно губы) – слегка брезгливым, словно на прекрасно сервированном столе он вдруг в последний момент обнаружил отсутствие какого-то изысканного, но абсолютно необходимого в сей миг блюда. Лицо же Давыдова, в противовес резинковскому, сияло радостью. Общее у всех троих было только то, что глаза их хмельно блестели, словно они выпили под водой не одну, а как минимум, по одной бутылке шампанского на брата! — Пробка из бутылки никак не хотела выходить, – сказал Сударкин, вылезая из проруби. Вода, струясь, стекала по его гидрокостюму. Он снял акваланг и не спеша отпил глоток коктейля, а стаканчик с оставшимся содержимым, легко согнувшись в поясе, поставил на лед. Давыдов залпом выпил свою порцию, сидя на льду, словно на песчаном пляже, с ногами, опущенными в воду. — Ну, мужики! Здорово! – пророкотал он. И было не совсем понятно – то ли этот возглас относился к коктейлю, то ли к подводному новоселью. Резинков бросил в свой стакан кусочек льда и, положив левую руку на край лунки, по грудь в воде, не торопясь, причем с таким видом, будто это был не разведенный спирт, а газировка с брусничным сиропом, выпил коктейль. Ледышку, почти растаявшую в стакане, он, как горошину из трубки, выплюнул, и она, весело подпрыгивая, покатилась по льду. — Мы все вам там оставили, – обратился он к Мурахвери. – Яблоки даже нарезали. Бутылку, думаю, сумеете открыть. Так что давайте, дерзайте!.. Правда, втроем там все же тесновато. Вдвоем, пожалуй, будет в самый раз. Впоследствии этот коктейль, по-видимому, за его мощь, особенно когда разведение было семьдесят к тридцати, а иногда спирт только слегка закрашивался брусничным соком, был назван нами «Моби Дик» по имени знаменитого Белого кита, созданного современником Гоголя Мелвилом. Правда, отмечались этим коктейлем именно в такой обстановке, на краю майны, только события, происходящие впервые. Я тоже испытал на себе жгучую силу этого сугубо мужского напитка, когда впервые погрузился под лед. Но это было не в тот день… А пока вторая тройка новосельщиков ушла под воду. А первая – переодеваться в водолазку с заранее протопленной там жаркой печкой. Я остался у проруби один, не считая, конечно, неба. И казалось, а вернее – так оно и было, что до меня сейчас никому нет никакого дела. Ибо еще вчера было решено, что я в подводный дом, как никогда не погружавшийся доселе, не полезу, поскольку меня надо будет особо тщательно страховать и все такое прочее. А заниматься ныне чем-нибудь всерьез никому не хотелось. Одним словом, я был в тот день лишней морокой «на этом празднике жизни». Через какое-то время – разом! – из-под воды, как оторвавшиеся от своего груза круглые буйки в своих разноцветных шлемах, всплыли Путилов, Мурахвери, Карабанов. А уже переодетые «в сухое и штатское» Резинков, Давыдов, Сударкин принесли им «Моби Дик». Пришедшая с берега Света готовила в вагончике обед. Обещан был настоящий украинский борщ, тем более, что у местных жителей нам удалось раздобыть достаточно постный кусок свинины, свеклу, морковь… А Света из своих запасов принесла еще и стакан белой фасоли. Настроение у рыцарей «квадратного стола», когда они все собрались за ним в «партикулярных платьях», было приподнятым. А запах борща вообще вздымал его на недосягаемую высоту. Да еще, сумеречно блестя своей темно-вишневой глубиной, стояла посередь оного пузатенькая бутылка c «Моби Диком»… И только я ощущал в себе какой-то дискомфорт, словно только что проглотил что-то горько-кислое. Резинков обернулся ко мне (я оказался за столом между ним и Давыдовым) и, пока Света разливала борщ, что вызвало дополнительное радостное оживление, под общий шумок тихо сказал мне: «Не переживай, малыш. Завтра ты увидишь лед с обратной стороны. И у тебя еще будет куча всяких впечатлений… А пока загадывай заветное желание – между двумя Николаями сидишь». В толстых водолазных свитерах из верблюжьей шерсти они чем-то напоминали два платяных шкафа: большой – справа и средних размеров – слева. И я, сидя между ними, чувствовал свою полную защищенность. А тут еще «большой шкаф» обернулся к нам с Резинковым и весело подмигнул мне. И от Резинкова и от Давыдова, кроме, конечно, вот этого обычного «малыш» я, честно говоря, такого не ожидал. Я загадал несбыточное желание, которое, как это ни странно, через много лет почти сбылось… Может быть, потому, что я всегда убеждал себя в том, что человек может все. Главное – точно знать, чего именно ты хочешь.
* * * В водолазке было уже тепло. А в единственное квадратное оконце возле печки сочился размытый свет хмурого утра. И от этого сероватого света, как-то неохотно проникающего внутрь помещения, на душе становилось тоскливо. Состояние беспричинной грусти, а затем и сосущей душу тоски я ощутил вдруг, когда после завтрака вышел из нашего жилого вагончика и взглянул на тусклое небо, где среди непонятной, казалось, сырой, серой массы распаренным блином едва-едва угадывалось бледное солнце. Словно и оно само и лазурный его приют исчезли навсегда из нашей жизни. Теперь, в водолазке, где я одевался, неспешно готовясь к своему первому погружению, эта, беспричинная казалось бы, тоска еще усилилась. На футболку и трусы я надел колючие шерстяные водолазные рейтузы и свитер. Потом, поверх обычных носков, – еще меховые. Натянул резиновые «штаны», обтянувшие мои ноги от стоп до пояса. Потом – такую же черно-желтую резиновую «рубаху», которая соединялась со штанами специальным твердым резиновым кругом. Саша Мурахвери, который должен был меня страховать, помог мне надеть сработанный заодно с маской шлем, наверху которого был клапан, чтобы избыточный воздух из костюма выходил наружу, то есть в воду. Напротив рта в шлеме еще было металлическое отверстие, к которому снаружи прикручивались шланги акваланга, а внутри приделан резиновый загубник. Надев гидрокостюм, ты уже чувствуешь себя немного отстраненным от внешнего мира. Движения твои не так легки. Ты будто бы спеленут по всему телу кажущейся тесноватой резиновой одеждой. — Метрах на трех обожмись, – дает мне наставления Александр. – Помнишь, как учили? — Да, – неохотно отвечаю я, начиная вспоминать теоретический курс. «Дышать под водой только ртом! Плавно и равномерно производя вдохи и выдохи». Если же в костюме имеется избыточный воздух, и это мешает погружению, создавая положительную плавучесть, тогда нужно «встать» под водой «солдатиком» – вверх головой и «обжаться», то есть выпустить самопроизвольно лишний воздух через резиновый клапан, отдаленно похожий на очень короткую косичку на макушке шлема. А если воздух все же где-то еще «застрял» – можно сделать несколько вдохов (обычно – два-три) носом. Тогда обжим будет полным. Выхожу из водолазки. У проруби, смочив в воде (которая кажется мне зловещей и очень холодной, хотя я этого не чувствую через резину и двойные носки) подошвы гидрокостюма, надеваю длинные черные ласты. Мое первое погружение решено почему-то осуществить с наружной майны. Может быть, потому, что прикрепленная к одной ее стороне металлическая водолазная лесенка из пяти или шести ступенек не была еще перенесена в водолазку, и именно по ней я должен «спокойно спуститься в воду». Мурахвери подает мне акваланг. Я вдеваю в его лямки руки. Он подтягивает их так, чтобы баллоны не болтались, а плотно прилегали к спине. Резинков, вышедший из водолазки, в валенках, верблюжьих водолазных рейтузах и таком же свитере, без шапки, с развевающимися от небольшого ветерка светлыми волосами, несет в руке пояс со свинцовыми пластинами на нем. Это тоже для меня. — Сколько ты весишь, малыш? – спрашивает он меня. — Где-то шестьдесят пять, – убавляю я себе два килограмма. — Тогда четырех штук будет достаточно, – говорит он, снимая с пояса два свинцовых грузила. – Это Давыдову с центнером мышц, заполненных кислородом, и девяти будет маловато, чтобы его подтопить. Кажется, он с большим трудом сдерживает свою постоянную ироническую улыбку. Я знаю, что девять грузов – это явное преувеличение, но сейчас я, кажется, понимаю Резинкова. Он смотрит на манометр моего акваланга и говорит: «Воздуха у тебя минут на пятнадцать–двадцать. Когда стрелка дойдет вот до этой черты, – об этом уже говорено-переговорено, но он еще раз показывает мне циферблат, и я вижу цифру 30 и окрашенный за ней, вершиной вниз, красный треугольничек, – начинай всплытие. Тридцать атмосфер – это минуты на две, не больше. Мурахвери тебя страхует. Путилов по готовности номер один будет сидеть в гидрокостюме в водолазке. Если что, он к тебе спустится. Но я думаю – все будет нормально. Запомни – твое погружение всего лишь учебное. Опустишься метра на три, пообвыкни. Погружайся ногами вниз. Ихтиандра из себя пока не изображай. Дыши только ртом! Если подмерзнешь – выдохни немного через нос в костюм, согреешься. На глубину не лезь. Далеко от лунки тоже не отходи. Будь в зоне видимости, метрах на пяти, понял? — Понял… — Что-то уж больно вяло отвечаешь, малыш. Страшно, что ли? — Страшновато, – честно признаюсь я и даже не обижаюсь на его обычное: «Малыш», рисуя при этом радужную картину, что вот было бы здорово, если б он вместо Путилова сидел в водолазке и в любую минуту (потому что под водой именно одна, самое большее две минуты все и решают) был готов к погружению. — Это нормально для любого человека, – успокаивает меня Резинков, уже прикручивая к моему шлему переходник от трубок акваланга. — Сделай несколько вдохов и выдохов… Носом не выдыхай! – прикрикнул он на меня. – А то раздуешься сейчас, как бревно. Я увидел, что действительно ноги и руки у меня слегка набухли от непроизвольного выдоха носом в костюм. Капроновый линь к лямкам моего акваланга, завязанный на груди каким-то особым замысловатым узлом, был уже прикреплен, и Резинков резко скомандовал: «Пошел!» А потом, тут же спохватившись, добавил: «Нет уж, ты лучше по лесенке спускайся, не торопясь. В общем, делай все без суеты». Я начал медленно и неуклюже (очень мешали ласты), крепко держась своими трехпалыми резиновыми перчатками за перила нашей алюминиевой лестницы, спускаться в воду. Мне казалось, что я с тяжелым аквалангом на спине, да еще со свинцовым грузом на поясе, просто камнем пойду на дно. При этом я слышал, что на воздухе вдох у меня производится с каким-то астматическим шипением, а выдох – с металлическим посвистом. Опустившись на несколько ступенек, я увидел, что половина маски у меня уже в воде, а половина еще на поверхности. Четкая линия, словно проведенная кем-то по середине овального стекла, разделяла две этих среды – воздушную и водную. В воде вдох стал почти бесшумным, а выдох булькающим. Наверху, на воздухе, чуть выше уровня моей головы, я видел топчущиеся валенки Мурахвери, а внизу – последнюю круглую ступеньку лесенки, которая находилась под водой на глубине уже около ста восьмидесяти сантиметров. То есть мне было там уже «с крышкой»… Я ступил на последнюю ступень, которую от предпоследней отделяло, наверное, сантиметров двадцать, и увидел перед собой серо-белую ледяную стену. В то время как мои ноги в ластах находились ниже подводной кромки льда. Потом, держась руками за последнюю ступеньку лесенки, я еще долгое время не решался ее отпустить, хотя и чувствовал, что держаться даже одной рукой было легко, что в бездну я камнем не ухну. Разжав руку, я почувствовал, что завис в воде на тоненькой ниточке страхового конца, как воздушный шарик (будто лишившись своего веса), но конец, впрочем, не был натянут, а даже слегка провисал, давая мне свободу действий. Взглянув вверх, я увидел, что Мурахвери улыбаясь смотрит на меня и показывает мне руками, похлопывая себя по бокам, чтоб я обжался. Еще не до конца доверяя своим новым ощущениям, я вновь уцепился за нижнюю ступеньку лесенки и, приняв вертикальное положение, задержал дыхание. Воздух лениво, маленькими пузырьками, один за другим, словно жемчужины, нанизанные на нить, подался вверх. Чтобы обжаться еще лучше, я сделал вдох носом, потом второй. Тут же ощутив безумный ужас, поскольку вдыхать мне было, собственно говоря, уже нечего. Но зато костюм мой, сморщинившись, плотно обтянул тело. Движения от этого стали более свободными и легкими. Все еще держась за ступеньку, я попробовал поработать ластами. Сделав ими несколько плавных движений, почувствовал вязкое сопротивление воды и еще – как какая-то сила толкает меня вверх. Немного освоившись и стараясь делать размеренные, не частые вдохи и выдохи, я показал Саше, что двинусь подо льдом в сторону берега, где на близком ко мне склоне скалы виднелись заросли губок. Приняв почти горизонтальное положение, я вытянул руки вперед и начал плавно, как учили, работать ластами. Метрах в двух ниже изнанки льда, которая выглядела мрачновато по сравнению с поверхностным блестящим льдом, на который я все-таки взглянул с обратной стороны, я парил над каньоном, до дна которого в этом месте было, наверное, не более десяти метров. Оглянувшись назад, увидел, как за мной тянется тоненький светлый лучик страхового конца, которого я уже наверное размотал метров пятнадцать. Вытянув руки, теперь уже вдоль тела, как «профи», я завис над такой близкой в этом месте ко льду скалой, которая от своей вершины и далее к берегу как-то плавно переходила в галечник с уже единичными кустами губок на нем и светлыми пятнами песка среди этого мозаичного разноцветья камней. Плавно опустившись на одно такое, почти белое, пятно песка, я взвихрил его ненадолго, замутив тем самым идеально прозрачную воду. А когда песок осел (причем было видно, как каждая песчинка плавно слетает назад, ко дну, словно занимая строго отведенное лишь ей место), я увидел, что из отверстия, проделанного в стволе губки, как из маленькой зеленой пещерки, торчат верхние антенны гаммаруса, который, чинно поводя ими из стороны в сторону, наверное, пытается определить, что это за внезапное затмение случилось вдруг в его владениях? Он даже более чем наполовину высунулся из своего убежища, и я увидел, как размеренно, четко, плавно и быстро в то же время работают его плеоподы, подгоняющие к середине брюшка воду, из которой он и добывает кислород (благо, что байкальская вода насыщена им пока еще в достатке), ибо, как и мы – люди, имеет кровь. У некоторых видов она даже голубого цвета, потому что вместо железа, как у нас, кислород связывается медью. «И никаких тебе трубок, никаких аквалангов не нужно. Все выверено, все продумано Природою до мелочей». «Ах ты, аристократишка эдакий! Добытчик кислорода, санитар бездны», – сказал я ему, забыв про загубник. Но тут же, причем очень быстро, произошло нечто невероятное, чего я сразу и не понял. Мои ноги вдруг словно приклеились сразу всей поверхностью ласт ко льду, будто меня к нему кто-то быстро подтянул, и я оказался висящим вниз головой примерно в полуметре от дна. Улитка, сидящая на гладком круглом красивом камешке, кажется, с любопытством разглядывает меня. И не только она. Из-под ближайшего ко мне и к песчаной «полянке» плоского, темного, средних размеров камня, раздувая жаберные щели, на этот «цирк» с удивлением взирает одним глазом, видимым мне, яркой расцветки бычок-подкаменщик. В первую минуту мне захотелось рассмеяться, потому что я образно представил, как комично и нелепо, должно быть, выгляжу в таком положении. Попытался сориентироваться в пространстве. Слева от меня, над резко углубляющимся, чуть в отдалении, каньоном, тянулся к проруби мой страховой конец. «От майны я ушел не так уж далеко…» Справа, по направлению к берегу, на расстоянии вытянутой руки, приплюснутый ко льду, буквально в нескольких сантиметрах от дна висел большой эллипсовидный, напоминающий очень маленький дирижаблик, и как бы светящийся изнутри, воздушный пузырь. «Неужели это я столько навыдыхал?» – эта мысль не на шутку встревожила меня, и смеяться тут же расхотелось. Во-первых, я не мог точно определить, сколько времени я пробыл под водой: пять, десять, две минуты? А во-вторых, я никак не мог «отклеить» свои ласты ото льда (словно их прикрепили к нему очень хорошим клеем, или они стали мощными резиновыми присосками) как бы я ни пытался изогнуться и дотянуться до них руками. «Ноги» мои раздулись и стали похожими на бревешки средних размеров, и я наконец понял, что, находясь вниз головой, непроизвольно делал выдохи носом в костюм. К моей легкой панике, возникшей по этому поводу, неожиданно прибавилось еще одно чувство, усилившее ее. Вообще-то я не страдаю боязнью замкнутых пространств, хотя, как и всякий нормальный человек, абсолютно изолированных помещений не люблю. Но теперь я вдруг представил всю громаду и тяжесть льда, к которому «прирос», и, видя такое близкое от моей головы дно, я вдруг подумал: «А что, если лед немного просядет?» Мысль была, конечно, нелепая, но в тот момент она мне такой не казалась. «Меня же просто расплющит как прессом!» Я заволновался еще больше, и мне вообще стало не по себе. И еще не вникнув до конца в происходящее, уже почти автоматически я резко дернул веревку три раза на себя (что означало: «Аварийное всплытие!»), боясь только одного – что мой сигнал может быть не воспринят по каким-то причинам страхующим. Иного достойного выхода из этой ситуации я просто не находил, сразу вдруг забыв весь теоретический курс. Кажется, не успел я еще дернуть в третий раз, как тут же почувствовал, что лямки акваланга врезались мне в плечи, а веревка потащила, отделив ото льда, к спасительной майне. «К свету, к воздуху, к простору!» Я схватился за нее обеими руками и ударился плечом об лед, что уже окончательно позволило мне сообразить, что теперь я нахожусь в горизонтальном положении, скользя по обратной, и к моему счастию довольно ровной в этом месте, глади льда. Принять какое-нибудь другое положение было уже невозможно. Я так быстро продвигался к майне, словно меня тащила к ней механическая лебедка, а не человек. Когда я вынырнул на поверхность, клапан на моей макушке, надувшийся, как сарделька, и поднявшийся вертикально, пискливо, как газ из спертого кишечника, начал стравливать воздух. И тут же вопросительные лица Путилова, уже с аквалангом за спиной, и Мурахвери превратились от безудержного смеха в гримасы. Их хохот еще усилился, когда мой ослабевший и уже опадающий воздушный клапан издал последний слабый пук. — Ой, не могу! – держась за живот, хохотал Мурахвери. Путилов, тоже согнувшись, смеялся беззвучно, до слез. А я, глядя на них снизу вверх, и уже почти успокоившись, думал: «Какие у меня хорошие, надежные друзья». Сударкин с Резинковым, вышедшие из вагончика и подошедшие к проруби, тоже улыбались, глядя на нас. По-видимому, вид у меня был довольно растерянный. Я по-прежнему крепко сжимал загубник акваланга, делая при этом шумные вдохи и выдохи. Продолжая не обидно улыбаться, Резинков снял с меня шлем. — Ну, что случилось, малыш? – уже серьезно спросил Коля. После моих не совсем внятных объяснений новый приступ смеха согнул в дугу теперь уже всех четверых. И только подошедшие к лунке Давыдов и Карабанов стояли молча и смотрели на меня не то с сожалением, не то с жалостью. — Не заслужил ты, дружище, «Моби Дика», – все еще улыбаясь, проговорил Резинков. – За пять минут погружения ты достиг пока что только одной цели – всех переполошил. После обеда пойдешь под воду уже работать, а не просто гулять. И немного погодя серьезно добавил: — Надо, чтобы это состояние страха и беспомощности не застряло в тебе. А его можно пересилить, только заставив себя снова погрузиться. А в общем-то не расстраивайся, и не такое с нами со всеми было. Вылезай, пойдем обедать.
* * * После обеда мне предстояло вбить в расщелину скалы единственный штырь с кольцом на боку и подтянуть к нему «трансекту», закрепив ее в кольце. Веревка-трансекта уже была натянута подобными штырями ниже и выше по каньону, но недостаточно хорошо. Мой штырь надо было вбить прямо под подводным домиком, на глубине примерно шестнадцати метров, а затем «благополучно вернуться назад». Слово «благополучно» особенно подчеркивалось Резинковым, когда он инструктировал меня. Я понимал, что подобную работу сможет выполнить даже любой длинношерстный макак, и что ее просто придумали для меня, причем лишь для того, чтобы я вновь погрузился под воду, теперь уже якобы по серьезному делу. Страховать меня было поручено Сударкину. А «на стреме» должен был стоять Резинков. С одной стороны, это, конечно, успокаивало, правда, не настолько, чтобы я чувствовал себя совершенно безмятежно, а с другой стороны, настораживало, потому что задействовались наши лучшие водолазы. Саша Мурахвери даже «пожертвовал» мне свой шлем с удобным открывающимся стеклом, которое до поры до времени просто висит на своей металлической коротенькой стальной цепочке сбоку и не отпотевает от дыхания, пока ты одеваешься, готовясь к погружению. И которое потом плотно вставляется в специальный паз, находящийся в достаточно большом, удобном для обзора отверстии шлема из твердой резины. Я стоял на краю майны уже готовый к погружению, но все никак не мог решиться ступить на лесенку, отчетливо белеющую в зелени воды, и делая вид, что проверяю то манометр своего акваланга, то узел страхового конца. И тут, готов поклясться в этом (хотя все потом отрицали сей факт), я почувствовал, что Резинков хоть и тихонечко, но достаточно резко подтолкнул меня… ногой как раз в то место, которое располагалось ниже баллонов акваланга и поясницы и я, судорожно махая руками, сковырнулся плашмя в воду. Слегка придя в себя, болтаясь в лунке, до плеч погруженный в воду, я взглянул наверх. Сударкин очень спокойно, с непроницаемым лицом держал в руках мой страховой конец, клубок которого лежал в тазу у его ног. Мурахвери тоже очень серьезно и деловито подал мне штырь и маленькую кувалдочку. А Резинков показал оттопыренный вверх большой палец руки, словно говоря: «Славный прыжок, малыш, ничего не скажешь». А потом развернул сжатые в кулак пальцы и оттопыренный палец вниз, давая мне понять: «Мол, хватит колыхаться в проруби. Погружайся!» От созерцания такой безмятежной деловитости моих товарищей ритм ударов сердца у меня нормализовался, перестав быть судорожно учащенным от внезапного падения в воду, и я даже почувствовал какое-то отчаянное бесстрашие и желание тут же доказать им всем, каков я есть на самом деле! До домика, причем головой вниз, я дошел очень красиво. Во всяком случае, так я представлял себя со стороны. Кувалда, правда, не очень сильно, тянула меня вниз, а ласты работали ритмично, в такт спокойному биению сердца. Под домиком я опустился на колени и не мешкая приступил к работе, постоянно помня, что воздуха в моем акваланге после утреннего погружения осталось минут на десять – пятнадцать. Когда я вгонял штырь в узкую расщелину скалы, каждый мой удар, совпадающий с выдохом, сопровождался веселым бульканьем воздушных пузырей, быстро устремляющихся вверх. Я чувствовал себя уже почти комфортно и даже почти уверенно, несмотря на такую внушительную для меня глубину. Штырь был вбит довольно быстро, и я начал подтягивать к нему капроновую веревку, пытаясь вставить ее в прорезь кольца снизу. Оказалось, что на деле она была довольно сильно натянута между другими такими же штырями, вбитыми вдоль по каньону примерно через пять метров друг от друга. На этом отрезке расстояние между ними было чуть бо´льшим: метров семь – десять, наверное. Трансекта пружинила, как тетива тугого лука, и из-за ее упругого сопротивления, как при махании кувалдой (хотя удар в воде все равно был вязким и несильным), я расходовал больше воздуха, чем при свободном парении под водой при погружении. Когда дело было закончено, я взглянул на манометр моего акваланга и убедился, что стрелка его еще не подошла вплотную к критической отметке. Она стояла чуть левее тревожного красного треугольника. «Значит, воздуха у меня еще как минимум минут на пять». Перед всплытием я решил подойти ко входу нашего подводного убежища и заглянуть внутрь него, а уже после этого победителем всплыть на поверхность. И тут я почувствовал, что кто-то или что-то очень властно и цепко удерживает меня у скалы. Я усиленно заработал ногами и руками, ощутив, что баллоны моего акваланга лишь чуть-чуть отделились от скалы, а затем с каким-то погребальным глухим звуком (так ударяет мерзлая земля о крышку гроба) ударились о нее. Я, словно Прометей, оказался прикованным к скале. Освобожденные пузыри воздуха почти непрерывным потоком устремились из-за моей спины наверх, а стрелка манометра медленно, но неуклонно поползла к цифре тридцать. Когда она была в полумиллиметре от нее, я подал наверх аварийный сигнал. Слегка провисавший до этого страховой конец натянулся до предела, но я вновь лишь слегка отделился от скалы. В майне, как в широком окне, показались сразу три удивленных лица. Затем вода в ней забурлила, а через мгновение я увидел сначала черные ласты, а затем стремительно приближающегося уже лицом ко мне Резинкова. В его руке блестел водолазный нож, и еще через секунду я ощутил желанную свободу, и тут же вдруг совершенно ослеп, почувствовав, как что-то очень холодное и сильное давит на глаза, которые я из-за этого инстинктивно закрыл. Лишь на поверхности, куда, подталкиваемый Резинковым, выбрался, я смог открыть их, обнаружив, что стекло моей маски как-то уж очень вальяжно болтается на цепочке слева от отверстия, которое ему надлежало закрывать. — Да… малыш, опять не заслужил ты «Моби Дика», – на сей раз без всегдашней своей иронии сказал мне Резинков. И уже для остальных добавил: – Зацепился баллонами за трансекту. Да еще умудрился в последний момент как-то расстегнуть зажим стекла. Наверняка теперь полные штаны воды, а может и не только воды, – попытался он все же пошутить, но это у него не получилось. И снова обернувшись ко мне, закончил: – Ты, паря, за один день, пожалуй, исчерпал все свои напасти, какие только можно придумать, и какие только могли с тобой или с кем-то другим приключиться за многие часы погружений. Надеюсь, что завтра ты нас уже ничем не удивишь?.. В его последней фразе было все-таки больше вопроса, чем утверждения, и от этого, при одной только мысли о погружении, у меня противно засосало под ложечкой. Наверное, в тот момент я был похож на мокрую курицу, а вернее – на мокрого кура, вытащенного из проруби, и поэтому в ответ на последнюю фразу Резинкова только и мог неопределенно пожать плечами. Ни на что большее у меня уже просто не было сил. В водолазке, сняв с себя мокрую одежду и переодевшись в сухое, я присел на полено у раскаленной печки, вдруг почувствовав себя таким несчастным, несуразным, одиноким, что впору было разреветься. Но тут, всунув в щель двери сначала свой черный нос, а потом и все остальное, в вагончик протиснулся прижившийся у нас небольшой беспородный деревенский пес Мишка. Он взглянул на меня своими озорными черными глазами с веселыми блестками, и забравшись по поленьям, лежащим сбоку от печи, повыше, сначала протяжно зевнул, а потом лизнул меня своим горячим шершавым языком прямо в нос, тем более что отодвинуться мне было просто некуда. И это его непроизвольное действие, словно подбадривающее меня, слегка отодвинуло куда-то мысли о моей полной несчастности. Шагая рядом с Мишкой, который, заглядывая в мои глаза, при этом еще извивался всем телом и весело вилял хвостом, в наш жилой вагончик, от которого отделяла какая-нибудь дюжина шагов, и вдыхая полной грудью холодный чистый воздух, в океан которого я был здесь погружен, в ритме своих шагов я прочел ему очень древние стихи, вдруг всплывшие из далеких глубин моей памяти.
Вдыхая воздух, ты вдыхаешь Вечность. А выдыхая, в ней ты растворен. То милосердие – дыхание от Бога. Запомни, Мишка, сей незыблемый закон.
В оригинале Мишка, конечно, отсутствовал, но зато он присутствовал сейчас здесь, со мной, под этим тусклым небом, и так же, как и я, вдыхал такой упоительный байкальский воздух! А свой «Моби Дик» на следующий день я все же заслужил…
* * * Постепенно мы обживали наш подводный каньон. И к середине экспедиции все как-то очень сдружились. Хотя и разногласия, конечно же, случались. И неприятности бывали тоже. Помню, как я страховал Давыдова, и когда он подал сигнал: «Все в порядке. Всплываю», дернув два раза страховой конец, я начал потихоньку, чувствуя его неспешный размеренный ход, выбирать веревку… А когда его голова показалась над водой, я с ужасом увидел, что маска у него почти на треть заполнена слегка пенящейся кровью. Оказалось, что на глубине в носу у него лопнул какой-то сосуд и, пока Давыдов доделывал работу, кровь из носа капала в маску. После этого он почти неделю не мог погружаться. На определенной глубине сосудик каждый раз норовил лопнуть снова, от так и не установленной нами причины, которой вполне могла быть легкая простуда, а оттого и почти незаметная заложенность носа. Впоследствии многие детали подзабылись, а вернее, яркость их померкла, потускнела, как старинное серебро, но очень многое и до сих пор помнится отчетливо и ясно. Разве забудешь и первые страхи и первые восторги от необычного ощущения парения над бездной с ее неподвижной непроницаемо черной таинственной и страшно манящей к себе глубиной. И подводные скалы каньона, словно стены старинного замка, поросшие на естественных террасах зелеными разлапистыми губками. И здоровенного для Байкала, как большой палец руки, акантогаммаруса, почти упирающегося боковыми острыми шипами своего панциря в стекло твоей маски и, развернувшись, внимательно разглядывающего тебя за ним. Так мы и стояли оба в толще вод, замерев, взирая друг на друга, словно пытаясь разгадать извечную загадку жизни, такой разнообразной во всех ее проявлениях. И только плеоподы рачка, да мои ласты плавно двигались, нарушая эту застылость. Однако задерживать дыхание надолго было невмоготу, а бурливые пузыри воздуха, вырвавшиеся с шумом из акваланга, спугнули моего визави. Помнятся, хоть и подернутые уже легким туманом забвения, парящие над каньоном, с ладонь величиной (тоже редкое для сибирского озера-моря явление) планарии, плавно изгибающие, подобно морским скатам, свои плоские тела в неведомых струях подводных течений, то вздымающих их кверху, то опускающих вниз. Или забудешь разве, как достиг предельной для себя глубины – 52 метра! И довольный жизнью, самим собой, своей храбростью, своим веком, своими друзьями, своей молодостью – забрался потом в наш подводный домик, чтобы побыть наедине со своими мыслями и чувствами, подольше понянчив в себе это состояние, а заодно и немного согреться и пройти, на всякий случай, декомпрессию. И как там во все горло (в этом гулком металлическом пространстве) я орал песню: «Любо, братцы, любо! Любо, братцы жить. С нашим атаманом не приходится тужить!..» А потом вдруг загрустил неизвестно от чего, чуть не до слезы в этом пустом одиноком пространстве и вылез поскорее наружу, наверх, к солнцу, к людям. Дня через два после этого погружения, я аккуратно вывел на своих баллонах красной краской клич, наверное, всех водолазов мира: «Dum spiro – spero» – «Пока дышу – надеюсь». Надпись эта к концу экспедиции потускнела и кое-где стерлась, хотя и не перестала быть от этого менее значимой. И помню, что перед каждым погружением потом, после того, когда мне удалось преодолеть себя, свой страх, неуверенность в себе, меня постоянно посещало предчувствие чуда, которое непременно должно случиться. И чудеса действительно случались. Я видел снизу, проплывая под ними, грузовые машины, привозившие к нам на лед дрова, приборы, продукты и приплюснутых рядом с ними ко льду маленьких, похожих на гномов людей с огромными, несоразмерными с их ростом плоскими ступнями, припечатанными ко льду. Я видел через пятидесятиметровую чистую линзу воды желтые теплые лучи солнца, косо праздничным ореолом расходящиеся от квадрата лунки и как бы гаснущие в глубине. Я был знаком с бычком подкаменщиком Васькой, который почти все время дремал под своим овальным камнем, где я обнаружил его впервые, и который не менял своего обиталища и после нашей встречи и даже не возражал, когда ему почесывали бок за жаберной щелью. Он только слегка разворачивался и подставлял под пупырчатую резину пальца еще и свое светлое, в отличие от всего остального окраса, брюшко. И это явно говорило о том, что подобные действия ему очень нравятся и что он мне доверяет. И без того едва видимые движения его боковых плавников в такие минуты и вовсе почти прекращались. И весь он становился каким-то томным. Только что не урчал от удовольствия, как кот. Одним словом, я жил в согласии с природой, наблюдал размеренную, выверенную на протяжении миллионов лет подводную жизнь. К концу экспедиции мне были знакомы, казалось, уже все изгибы каньона, все трещины в скалах, все его террасы…
Я вижу, что мои стремительные мысли вновь забежали вперед. А ведь экспедиция еще не заканчивается – она лишь в середине.
* * * Приезд на биостанцию студентов, а точнее студенток, поскольку биофак университета сами же студенты называют еще и бабфаком из-за явного преобладания на нем лиц женского пола – это всегда праздник. В снулой, казалось, до весны уснувшей деревеньке вдруг (обычно на субботу и воскресенье) появляется веселая, гомонящая, из двух-трех-четырех человек, стайка молодых, красивых, розовощеких от зимнего свежего ветра, и улыбчивых от необычайности обстановки, и особенно от неясных предчувствий, радостных девушек. В ярких спортивных куртках, меховых: песцовых, норковых, лисьих ли шапках или в вязаных шапочках. Первые их улыбки достаются, естественно, нам. Ведь зачастую кому-то из них нужно непременно что-то достать из-под воды: для текущих опытов, для кафедрального музея, в котором отсутствует такой-то экспонат… Губку, гаммаруса, камешек со слизью, какую-нибудь водоросль. Естественно, выполняем мы подобные «заказы» только по официальной просьбе. Обычно девушки после того, как устроятся в биостанцевском общежитии, приходили к нам с запиской от заведующей той или иной кафедры, которые старались использовать наше пребывание на льду и в своих интересах, в основном для пополнения коллекций Байкальского музея. Доставали мы экспонаты в небольших количествах и не часто, чтобы не нарушать кропотливо созданное природой биологическое равновесие. Визиты вежливости после выполнения определенных просьб – почти обязательны. Ужин на льду – у нас. Или ужин на берегу – у них. А чаще всего и то и другое. «Сегодня мы к вам, а завтра вы к нам на обед и пораньше, потому что уже в четыре часа за нами придет университетская машина». Хотя обычно никакой машины как туда, так и обратно не было. Если, конечно, кто-то из родителей девчонок не приезжал за ними на своей. Чаще же всего от Листвянки до Котов и назад маршрут в восемнадцать километров проделывался пешком. Единственное, что назад надо было успеть до темноты, чтобы не сбиться с пути и не ушуровать куда-нибудь вглубь Байкала, да еще чтобы поспеть на последний рейсовый автобус Листвянка – Иркутск. Мне, честно говоря, больше нравилось трапезничать на берегу, потому что там всегда было что-нибудь вкусненькое, домашнее. Какие-нибудь замысловатые пирожки со свеклой и курагой, например. Или что-нибудь в том же духе, приготовленное своими руками. Иногда со студентками приходили-приезжали и их подруги – тоже студентки, но почему-то, в основном, художественного или театрального училищ. Как правило, они были не так веселы и беззаботны, как биологини. И кажется, их основная задача состояла лишь в том, чтобы умело держать лицо, изобразив на нем одновременно и томность, и необъяснимую грусть. Обычно они, особенно «актрисы», со скучающим видом наблюдали за подводными погружениями и с еще более скучающим и безразличным – слушали, а вернее, ловили обрывки разговоров на биологические, «научные», темы, покуривая при этом какую-нибудь ароматную длинную тонкую сигаретку, и с некоторой даже брезгливостью взирая на гаммарусов, которых их подруги перемещали в пробирку из орудия лова – донного совка с сеткой. Если художницы в большинстве своем не очень красивы, но очень задумчивы и умны, то их подруги были напротив очень красивы и не очень умны. И если первые были не до конца подвержены тотальному влиянию своих «очаровательных артистических подруг», превращающих их в своих пажей, то они были самоотрешенны и постоянно рисовали, например, пейзажи, стоя где-нибудь в отдалении на берегу, или наш ледовый лагерь, или нас самих. Рисунки с портретами тут же дарились тем, кто на них изображен. Я был удостоен такой чести лишь единожды. Рекордсменами же по числу подаренных им рисунков были Мурахвери, Сударкин и Резинков. Мужественными портретами Александра с могучей бородой, к пассивному неудовольствию его жены Светы, была увешана часть стены в их кухне – она же «гостиная». Что, несомненно, подтверждало истину о том, что «женщины любят ушами». Ведь их всегда очаровывает тот, кто может складно и сладко говорить. А уж кто-кто, а Саша-то поговорить умел и любил. И мог поднапустить порою такого розового тумана!.. Резинков же и Сударкин – «герои гидрокосмоса» в красивых водолазных костюмах, как правило, «перед или сразу после погружения», поскольку позировать им было недосуг, рисунки, подаренные им, просто складывали в рундук. Итак, нам предстояло принять на ужин четырех девушек. И это было не просто, поскольку Света идти на лед отказалась, ответив Саше на его упрек: «А кто же там будет готовить?» просто и ясно: «Вот пусть ваши чаровницы вам и готовят». Чему Саша в глубине душе, по-моему, был даже рад. Ведь никто ему тогда не помешает вещать сколько угодно и о чем угодно. Две студентки биофака – второго и четвертого курса, хохотушка Оля Крестьянинова и холодная строгая красавица Таня Киянова прибыли на биостанцию в обществе двух своих подруг – рыжеволосой худенькой и очень высокой художницы Новиковой Нади и напротив очень сдобной, ядреной какой-то, «будущей актрисы» Алисы Тумановой. Причем сдобность Алисы была настолько влекущей и почти неправдоподобной в своих идеальных пропорциях, что все эти чудесные изгибы и выпуклости, припечатавшие к себе задние карманы джинс или так и просящиеся наружу из казалось бы тесноватого тоненького свитерка, тут же хотелось потрогать, чтобы убедиться в их реальности, в том, что все это действительно не мираж, не игра воображения отвыкших от общества дам мужчин, давно не лицезревших таких вот бесподобных девушек с беззащитными ямочками на щеках, с пепельными локонами густых волос, с загадочной улыбкой и с такими откровенно порочными, с поволокой, зелеными кошачьими глазами, кажется только того и ждущими – кого бы утопить в их беспредельной глубине. И только огромным усилием воли, находясь рядом с Алисой, я подавлял в себе это желание немедленной пальпации и перкуссии для установления диагноза ее истинных мыслей и чувств. Алиса и в самом деле стала потом весьма известной у нас в стране и за пределами оной киноактрисой. И этот ее зовущий взгляд я потом встречал на многих афишах и фотографиях в различных журналах. А вот счастливой, насколько мне известно, ей стать так и не удалось. Хотя она живет теперь в столице в своей уютной двухкомнатной квартире. Часто снимается. Причем чаще почему-то в Польше, чем в России. С удовольствием принимает у себя своих земляков из Сибири, предоставляя им кров. По-прежнему может порой изрядно выпить. И мечтает теперь уже не о сказочном принце, рыцаре или джентльмене (все эти этапы она давно прошла, не испытав ничего кроме скуки), а о надежном друге.
* * * Ужин получился на редкость веселым и непринужденным. Лучше всяких пряностей сдобренным импровизированными шутками друг над другом и над всевозможными несуразностями нашей, иногда такой нелепой, жизни. Ольга с Надеждой хохотали до слез. Татьяна сдержанно улыбалась, но улыбка ее все чаще и чаще переходила порою в плавный искристый негромкий смех. Даже Алиса несколько раз не удержавшись добродушно рассмеялась, забыв о том, что красавицам смеяться искренне не рекомендуется. Ведь их основной козырь – тайна! Что мы ели, что мы пили – я не помню. Говорили же в основном о забавных эпизодах (вернее, кажущихся такими по прошествии какого-то времени), случившихся при погружениях. Так, например, кроме всего прочего моя припечатка ко льду вниз головой, «прикованность» к скале или накачанность моего гидрокостюма ледяной водой из-за открывшейся маски превратились в такие веселые детали нашей жизни, что мне порой и самому хотелось рассмеяться. И хотя моей персоне за ужином было уделено немало времени, основным героем этого вечера был все же наш подводный дом! Во всех подробностях обсуждался вызвавший искренний интерес у наших слушательниц эффект воздействия шампанского на организм во время подводного новоселья. Желающим дамам, коими оказались биологини Татьяна и Ольга, Александром Мурахвери было с легкостью обещано, что они сами, завтра же, смогут побывать в нашем подводном доме. И наглядно убедиться в действии шампанского на глубине, которого у нас, впрочем, давно уже, – а в деревенском магазине по ненадобности – и подавно не было. Но, как известно, с легких застольных необязательных, как правило, обещаний и спрос такой же. И похоже, что все это понимали. — А может быть, вам в вашем подводном доме устроить ресторан? – предложила Алиса. – Затраты на алкоголь минимальные, а эффект – максимальный. — К тому же экзотика! – весело вставила Надежда. — И от посетителей, по-моему, отбоя не будет, – дополнил кто-то. — Ну да, затолкаешь ты их под воду, да еще зимой, – уронил свое веское слово Мурахвери, – таких дураков, как мы, девочки, не так уж много. Мы ведь все здесь не конвейерного, а штучного производства. Так сказать, экспонаты в единственном экземпляре, – без ложной скромности констатировал Александр. – Вот я, например, однажды, когда работал в Арктике, в зоне битого льда, – блестя глазами и без плавного перехода начал он свою очередную историю-страшилку… И я заметил, как рука Надежды потянулась к отложенным в начале ужина на край рундука листам ватманской бумаги и карандашу. И не мудрено – уж больно хорош был в этот момент Александр! А попросту А. М., как было написано на баллонах его акваланга. И грезилось, что это уже не А. Мурахвери, а А. Македонский, ведущий в бой своих бесстрашных воинов… Вновь, сначала незаметно, серые краски предвечерья превратились в жидко-фиолетовые сумерки, которые теперь уже сгустились за окном до плотной черноты. Пора было расходиться. Потому что завтра предстоял хоть и воскресный, но обычный экспедиционный рабочий день. А график работы у нас был довольно плотный. И сделать предстояло еще очень многое, а времени нашего пребывания на льду оставалось все меньше и меньше… Проводить девушек до общежития, в котором две комнаты, впрочем, почти всегда пустовавшие, на время экспедиции принадлежали и нам, и которое стояло возле маленького домика метеостанции на краю деревни, вызвались Мурахвери и Карабанов. — Заодно комнаты наши протоплю, да там и заночую, чтобы здесь лишнюю тесноту не создавать, – сказал Юрий, ни к кому конкретно не обращаясь. – А завтра к девяти часам, как штык, явлюсь к первому погружению. Девчонки, надеюсь, утром кофейком угостят? – обернулся он уже к растворенной в тамбур двери, за которой те одевались, снимая с вешалок свои куртки и шапки. В ответ наши гостьи заулыбались, закивали головами, но положительного дружного ответа все же не последовало, почему-то с некоторым тайным удовольствием отметил я про себя. — А вы разве не хотите нас проводить?! – спросила меня Ольга в приказном тоне и подала свою куртку, которую я как-то неловко, под насмешливым «рентгеновским» взглядом Резинкова и остальных, помог ей одеть. — Игорь, раз ты тоже идешь, прихватите тогда по парочке полешков, – попросил Юрий, когда я уже оделся. – Мы тоже захватим. — Девчонки! Завтра в перерывах между погружениями, ближе к обеду, можем покататься на мотоцикле. Совершить, так сказать, заезд к центру Байкала, – уже провожая нас и стоя в проеме растворенной входной двери, пообещал, широко улыбаясь, Женя Путилов, весь освещенный сзади яркой лампой, горевшей в тамбуре. Дверь захлопнулась. Квадрат света со льда исчез, и мы остались одни под звездным небом, обильно усеянным голубоватыми ледышками, словно прикрепленными к мягкому бархату ночи и порой подмигивающими нам. Я и Ольга пошли за вагон к рундуку за дровами, вытащив оттуда на ощупь, поскольку лампа над входной дверью отчего-то не горела, по два полена. Когда мы с ними в руках вырулили из-за вагончика к дороге, ведущей от нашего ледового лагеря к причалу, находящемуся напротив биостанции, то увидели следующую картинку. Юрий, подхватив под руки Алису и Татьяну, которые в свободных руках держали по полену, бодро шагал по наезженной в наметенном здесь на лед неглубоком снегу дороге к деревне уже шагах в двадцати от нас и, по-видимому, рассказывал девушкам что-то очень веселое, судя по их то и дело колышущимся от смеха плечам. Надежда и Мурахвери – он с очередным подаренным ему портретом в руке, она с этюдником через плечо – шли прямо к берегу, чтобы уже по береговой дороге, по которой местные жители вывозили зимой в деревню сено, состогованное в падях летом, дойти до поселка. Впрочем, дорога эта, из-за нечастого ее использования, была не очень накатанной, а потому неудобной. Александр с Надеждой также о чем-то оживленно говорили. Вернее, говорил, похоже, только он, разводя руками с трепещущим в такие минуты, словно крыло бабочки, белым листом бумаги, а Надежда, слегка наклонив набок голову, внимательно слушала. Они шли к высокому темному берегу с неясными контурными очертаниями деревьев на нем. Карабанов с Алисой и Татьяной, как быстрая тройка, чуть ли не вприпрыжку, энергично удалялись к рассыпанным на берегу в высоких снегах, теплым и веселым деревенским огонькам. Мы с Ольгой, примерно уже в полусотне метров от них, молча шагали туда же, к едва видимому и выпирающему изо льда темным силуэтом бревенчатому причалу. Как-то так незаметно получилось, что единственная эта дорога, ведущая к нему, распалась фактически на три самостоятельных пути. И все мы, идя в одно место, шли к нему все же по-разному. Березовые поленья слегка светились в полумраке, нелепо, ниже колен, удлиняя мои руки и будто мешали заговорить о чем-то веселом и непринужденном. И, казалось, от этого я испытывал тягостную скованность. — Игорь, – вновь взяв инициативу в свои руки, заговорила Ольга, – все, что о вас рассказывали сегодня за ужином – правда? — Почти… — Тогда все это совсем не смешно, а очень даже страшно… – задумчиво произнесла она. Деревня вдруг разом мигнула всеми своими огнями и погрузилась в темь и тишину. Перестал работать биостанцевский движок, дающий электричество, и зимой отключающийся иногда раньше, часов в десять, а не в полночь, как обычно. Свет звезд от этой всеобъемлющей теперь темноты стал более выпуклым и ярким. — Ольга, видите, вон там три звезды в ряд? – наконец-то нашелся я что сказать и указал ей поленом в нужном направлении. – Это: Альтаир – в центре, вверху – Денеб, а внизу – Вега. Альтаир – звезда счастья. Так что можете загадать что-нибудь сокровенное, глядя на нее. Говорят, то, чего пожелаешь – обязательно сбудется. Надо только очень сильно этого хотеть. — Да у меня вроде и нет никаких особо заветных желаний… – впрочем, не совсем уверенно ответила она. (А я подумал про себя – так не бывает.) – А к тому же мне и так сегодня очень хорошо. Настолько хорошо, что и желать чего-то еще, вроде бы, излишне, – более уверенно и, по-моему, совершенно искренне сказала она, как-то по-особому взглянув на меня. И, уронив на лед с легким позвоном поленья, раскинула руки, сведя их потом за головой и глядя в огромное загадочное небо, несколько раз прокрутилась, словно вальсируя в паре с почти не ощущаемым ветерком, прилетевшим вдруг из пади, и принесшим более теплый, с запахом талого снега воздух. Она ни с того ни с сего рассмеялась и, шагнув ко мне, озорно сказала: «Вы такой смешной сейчас почему-то, на гномика похожи». («Хорошо хоть не на Квазимодо», – подумал я.) И вдруг вновь став серьезной, пристально взглянула мне в глаза, порывисто обняла и, крепко зажмурив глаза, словно собиралась кинуться в прорубь, поцеловала. А я все это время стоял как пень, не выпуская из рук поленьев, боясь, что они могут упасть ей на ноги. — Ну вот мое желание и исполнилось, – сказала она не то с грустью, не то с горечью, уже отстранившись от меня и переводя дыхание, будто только что взбежала на второй этаж. – Только я хотела, чтобы инициатива исходила от тебя, – вдруг перешла она на ты. – Дальше не провожайте, не надо. Здесь же не город, так что ничего плохого со мной не случится. Дойду одна, – сказала Ольга, поднимая свои поленья. Мои она тоже взяла, положив к себе в охапку и еще раз наклонилась ко мне и уже дружески, а не как минуту назад, чмокнула в щеку. Так старшая сестра может поцеловать своего неразумного нашкодившего младшего братишку. — Ой, какой ты колючий! – Она все еще путалась между вы и ты. – Прямо «ежик в тумане», – снова рассмеялась Ольга. И я вспомнил, что в отличие от других даже не успел сегодня побриться к нашему праздничному ужину. — Ну идите, – чуть ли не подтолкнула она меня свободной рукой. – Вон как красиво, карнавально даже, сверкают огоньки вашего лагеря. Я оглянулся назад и увидел, что лампочка на мачте зажжена, и окна нашего жилого вагончика тоже весело играют желтоватым светом среди этой не холодной ночи на излете зимы среди ледового безмолвия. Вновь обернувшись к Ольге, я увидел что она, слегка пригнувшись, уже поднимается на берег, и снег знакомо, безразлично поскрипывает под ее камусовыми унтами. Шаги ее были упругими и плавными. И глядя на эту рослую молодую девушку верилось, что никакая нация, в которой есть такие свежие сильные женщины, не может исчезнуть бесследно. Все в ней было добротно, прочно и с любовью сработано матушкой природой. Чем-то неуловимым она напоминала мне легендарных Валькирий из скандинавских саг. И вкус горячего поцелуя этой Валькирии до сих пор приятно ощущался на моих растрескавшихся от ветра губах. Но повторить его я б не хотел. Мое желание под звездой Альтаир было совсем иное. Я вспомнил вдруг свою любимую, во всяком случае мне так тогда казалось, девушку Ингу, и то, что у нее через несколько дней – день рождения. И наверняка на ее двадцатилетие соберутся друзья и их литовские родственники, с незапамятных времен осевшие в Сибири, но не забывшие, к счастью, ни своих обычаев, ни песен, ни языка. Надо будет отпроситься у Ромашкина и сгонять дня на два в город. Достану ей красивую губку вместе с камешком, к которому она прикреплена, отмою до идеальной белоснежности и подарю. Оригинальный подарок. А удивления сколько будет! Все сидят, а тут в дверь звоню я, вхожу и вручаю его Инге. Не какой-нибудь там ширпотреб из магазина, а со дна морского! Размечтался я, бредя назад в наш лагерь.
* * * На следующий день была обычная работа. Необычным оказалось только предпринятое Женей Путиловым вместе с Давыдовым и Алисой «путешествие к центру Байкала». Уехали они за час до обеда, после плановых утренних погружений и работ, а вернулись почти к ужину. Причем вела мотоцикл, будто лихая наездница-амазонка, Алиса. На заднем сиденье, обхватив ее двумя руками за талию, очень прямо, хмельно улыбаясь, сидел Евгений, а совершенно, казалось, бесчувственный Давыдов спокойно спал в люльке, склонив свою буйну головушку в летном кожаном шлеме времен знаменитых полярных перелетов Валерия Чкалова на грудь, не выпуская из рук сетку, в которой темным стеклом поблескивали две семисотграммовые бутылки портвейна «Иверия». Алиса, лихо подрулив к лагерю, затормозила прямо пред нами, изумленно взирающими на эту картину. При этом мотоцикл на глади льда развернуло почти на сто восемьдесят градусов, и бутылки в сетке Давыдова, продолжавшего спокойно почивать, жалобно звякнули, что вызвало смех Алисы и тревогу Путилова. Он проворно соскочил с сиденья и, с трудом разжав пальцы Колиной руки, изъял у него сетку. Стоя очень прямо, как солдат в почетном карауле, он отрапортовал иронично улыбающемуся Резинкову. — Мы решили за каждый километр, приближающий нас к середине Байкала, принимать по стакашку доброго русского портвейна «Иверия». Механик техники, – он кивнул головой в сторону Давыдова, – не выдержал дозы. А мы с Алисой ничего. Правда, она мухлевала… После этого случая все наглядно убедились, что перепить Путилова – пустая затея. И что дело здесь не в килограммах живого веса, а в чем-то другом. В постоянной «тренировке» может быть или в скорости принятия алкоголя. Ибо до этого считалось, что напоить Давыдова, который вообще, казалось, никогда не хмелел, даже от самых мощных доз, просто невозможно. Алиса продолжала беззаботно смеяться (поскольку смех у нее теперь вызывала любая мелочь), а Женя, не выпуская из рук драгоценной добычи, что-то тихо говорил ей на ушко. Мы же принялись транспортировать Колю в вагончик, не раз вспомнив при этом стихотворение Корнея Чуковского: «Ох, нелегкая эта работа из болота тащить бегемота». Во время этой живописной картины к нашему лагерю и подкатила проехавшая мимо нас примерно час назад в деревню легковушка, из которой высыпали на лед Ольга и Татьяна. Надежда, сидевшая на переднем сиденье с очень похожим на нее худощавым мужчиной неуловимого возраста (может отец, а может быть и старший брат), осталась в салоне. — Где ты пропадала?! Мы все переполошились! – сдержанно, но с напором приступила к Алисе Татьяна. – Надеждин отец приехал, а тебя нет. Мы уж собирались уехать в город без тебя. И что бы, интересно, я твоей матери тогда сказала? Мы же договаривались в четыре часа собраться… — А-аа, – беззаботно отмахнулась Алиса. И, судя по ее виду, ей действительно было все равно, что сказала бы ее матери Татьяна. – Сама бы как-нибудь добралась. В крайнем случае Женечка довез бы меня до Листвянки. Правда ведь, Женя? – кокетливо улыбнувшись, обернулась она к нему. Отыскивая, тем не менее, как мне показалось, взглядом Карабанова. — Истинная правда, мэм, – по военному, словно он был офицером британских колониальных войск, отрапортовал Евгений, «щелкнув» при этом пятками мягких здоровенных безразмерных валенок и отдавая ей честь. Бутылки в его левой руке вновь жалобно звякнули. — Возьмите, мадам, с собой бутылочку этого изысканного доброго вина, изготовленного из наполненного солнечной энергией крымского винограда. – И он протянул ей бутылку «Иверии», тут же извлеченную из сетки. — Я не стою, сэр, таких жертв, – в тон ему ответила Алиса, отыскав наконец глазами Юрия и продолжая уже будто для него. – Вы и без того сегодня были безмерно любезны со мной. Женя с плохо скрываемым облегчением сунул бутылку обратно в сетку. А Резинков, забравший у него это хранилище портвейна, слегка подтолкнув его рукой в спину, тихо, но властно сказал: «Представление окончено, Женя. Пора баиньки». И Евгений, похоже, понял, что это не просьба, а приказ. И уже понуро опустив голову направился к нашему жилому вагончику. Перед самой дверью он обернулся, по-шутовски перегнулся вперед, произведя при этом какое-то немыслимое па и плавное движение рукой. Потом распрямился и, улыбнувшись во весь рот, вернее, растянув его, проговорил: «Всем общий привет!» Помахал рукой и через секунду исчез за дверью. Во время этого мини-концерта Ольга вынимала из машины свертки с оставшейся домашней снедью, передавая их Сударкину и Карабанову. — А для тебя подарок в доме, на столе в кухне, – подошла она ко мне, когда Игорь и Юрий понесли провизию в дом. Она подала мне руку и как-то очень грустно сказала: «Я не прощаюсь, а говорю до свидания». При этом она так крепко пожала мне руку, что я невольно подумал о том, какая она все-таки сильная девушка и о том, что она явно упустила еще одно слово – «товарищ». При таком рукопожатии, будто перед уходом в тыл врага, оно было бы очень кстати. Я тоже что-то ответил ей и, машина с ними покатила в сторону заката. Есть не хотелось, и я решил не дожидаться ужина. Предупредив своих, что заночую на берегу, и набрав в охапку дров, я уже собирался тронуться в путь. Но тут из приоткрывшейся двери вагончика раздался голос Карабанова. — Я с тобой. Подожди минутку! Прихвачу только несколько бутербродов. А чаек мы и там сварганим. Я не стал возражать, хотя мне почему-то хотелось побыть одному и подумать хорошенько. Толком я не знал о чем, собственно говоря, хотел подумать, но подумать мне было необходимо – это я чувствовал точно. — Клади дрова в санки, зачем их в руках-то тащить, – проговорил Юрий, выходя из вагончика в распахнутой куртке, с санями в одной и свертком в другой руке. До причала дошли молча. — Подожди немного, – сказал он, когда мы вышли на берег у биостанции, – я звякну домой. Я знал, что он пошел звонить жене. Он делал это почти каждый вечер с единственного в деревне биостанцевского телефона, который стоял на древнем столе, обтянутом некогда зеленым, а теперь уже почти серым сукном, в небольшой никогда не запирающейся комнате, в которой был еще такой же древний шкаф, а на беленой стене висела большая карта полушарий Земли. Вернулся он минуты через две. — Ну что, удачно? – спросил я его, поскольку много раз убеждался в том, как трудно с биостанции дозвониться в город. — Да, – нехотя ответил он. – Тебе привет от матери. И я понял, что Людмилы опять нет дома. О чем Юрию, видимо, и сообщила Мария Ивановна. Прекрасный кардиолог, бессильный, впрочем, со всей своей многолетней практикой в данном случае помочь чем-то сыну в его делах сердечных. Мимо небольшой осевшей и почти развалившейся уже часовенки, находящейся от изнанки биостанции чуть выше по склону, где в стародавние времена отпевали усопших и мимо нескольких могил, бугры которых время почти сравняло с землей, и лишь единственный сохранившийся лиственничный крест, черный от времени, напоминал, что здесь когда-то был погост, – мы пошли к нашему дому по дороге, освещенной, как и все вокруг, призрачным светом луны. Разговор почему-то зашел о Джоне Донне. Его жизни и проповедях, о том, почему «старина Хэм» взял его стих эпиграфом к своему роману «По ком звонит колокол». Из всего того, что тогда рассказал и наизусть прочел Юрий, запомнилось лишь одно, кстати, совсем не понравившееся мне, из-за своей не прикрытой ничем физиологичности, даже не четверостишие, а трехстишие, упавшее в мою память, как горошина в угол глубокого кармана.
Прекрасна жизнь зверей! Любой любым владей. Сложнее у людей… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Включив свет, мы увидели, что на столе в кухне, в которую выходили двери всех четырех комнат (двух наших и двух недавно покинутых студентками), на белой салфетке стояло прикрытое сверху тарелкой вместительное керамическое блюдо, рядом с которым поблескивала коричневатым цветом маленькая плоская бутылочка грузинского трехзвездочного коньяка «Самтрест». Бутылочка стояла на плитке шоколада «Белый медведь», из-под которой торчала записка, адресованная мне. «Игорь, этого расплющенного жизнью курчонка-табака надо слегка подрумянить, разогрев, а затем съесть с настоящей зеленью, которую мы вам оставляем. Предварить пиршество можно рюмочкой коньяка. Пока… Еще раз целую. Я». — О! Ты смотри-ка, здесь даже перец и петрушка есть, не говоря уж о картошечке фри! – воскликнул Юрий, сняв с блюда тарелку. – Ну молодцы девчонки! И это все ты один собирался слопать, злодеянин?! — Да я даже не знал, что здесь будет, – без особой охоты ответил я, не попадая в его бравурный тон, и начал строгать лучинки для растопки, поскольку в доме было довольно прохладно и из-за этого совсем неуютно, словно все его покинули раз и навсегда уже очень давно. Да и несчастного кура, побывавшего будто под асфальтовым катком, надо было действительно разогреть, тем более, что от его золотистой корочки так аппетитно пахло чесноком и еще какими-то приятно тревожащими мое обоняние, уже отвыкшее от таких изысканных ароматов, пряностями.
* * * Понедельник в экспедиции ничем не отличается от воскресенья и других дней недели. Та же работа, тот же размеренный ритм жизни… «И никаких тебе «непрошеных» гостей. Никаких карнавалов и душевных волнений. Да здравствуют будни! Ура!» Действительно я был рад, что наш нежданный, сумбурный какой-то праздник по поводу приезда дам сменился обычными днями. К тому же я хорошо, хоть и на не совсем свежей простыне, выспался. Причем не в спальнике, а под одеялом, и не на жестком рундуке, а на матрасе, лежащем на панцирной сетке. Правда, когда я ложился в постель, мне так вдруг захотелось перед сном принять горячую ванну, с хвойным экстрактом, например. «Ну, ничего, через несколько дней буду дома. К счастью, у нас в экспедиции беспривязное содержание, и план работ без меня не сорвется. Так что и ванну приму, и в кафе с Ингой схожу… Надо только почаще думать о ней. И… поменьше – об Ольге. Чем-то она все же зацепила меня. Может быть тем, что Инга понятна, объяснима, а в облике Ольги есть некая неразгаданность и тайна. А тайна – это единственное, что нас всегда влечет по-настоящему. И Ольгу мне почему-то хочется назвать Хельгой. Что ни говори, а есть в ней нечто скандинавское. Вот тебе раз, снова да ладом! Сам говорю не надо о ней думать, а получается, что только о ней и думаю», – мысленно приструнил я себя, плеснув в лицо холодной воды из умывальника и почувствовав уже, казалось, забытый мной азарт жизни. От чего настроение еще улучшилось. «Нет, надо действительно начать с сегодняшнего дня новую жизнь!» – твердо решил я. — Ветров! Ну чего ты там плещешься, как дельфин. Гляди, всю красоту смоешь. Иди лучше чай пить. Я свежий заварил, с мятой. Мы позавтракали бутербродами, принесенными вчера Юрием и не понадобившимися нам из-за нечаянно посланного судьбой, в лице милых девушек, ужина. Чай мы пили почти молча. Лишь изредка перебрасываясь друг с другом ничего не значащими отдельными фразами типа: «Ты с сахаром или без?» Вчерашних откровенных разговоров, причиной которых был, наверное, все же коньяк, и о которых он, пожалуй, теперь сожалел, Юрий не возобновлял. Проявить полную откровенность по нашему тогдашнему неписаному кодексу, когда ко всему следует относиться с иронией, считалось несомненной слабостью. А слабость никогда не украшает мужчину. Поэтому и «раскрыть душу» можно человеку, куда еще ни шло, незнакомому. «Поплакаться же в жилетку» человеку знакомому – это уже никуда не годится. Вчерашние же философские сентенции Юрия, насколько я его понял, сводились в основном к тому, что смерть – это обычный процесс прекращения жизни, только и всего. Но это не есть прекращение позора, если ты его прижизненно заслужил. Поскольку жизнь, не на уровне индивида, а вообще – неуничтожима… — Зачем нам говорить о смерти. О том, чего мы не знаем, ибо «тайна сия велика есть». И вряд ли когда-нибудь узнаем, во всяком случае при жизни, – попытался я перевести разговор в более приятное русло. Тем более, что так был хорош коньяк, и цыпленок, и вечер… Так славно похрустывали на зубах «соломинки» картошки, что слово «смерть» никак не вписывалось в эту обстановку. – Не лучше ли говорить о жизни, о которой мы, впрочем, тоже почти ничего не знаем. Недаром же, слушай, гаварыл паа-чтенный и мудрый Канфуций: «Мы не знаем жизнь. Как можем мы знать смерть?». Увы, моя полуирония не свернула Юрия с колеи, и он продолжал, даже не заметив, по-моему, этой ремарки. — …Ты знаешь, я думаю, что иногда надо уйти, чтобы остаться. Иначе ты своего соперника, даже при всех прочих равных условиях, не одолеешь. А вот без тебя, пусть даже неосознанно, она займется сравнением. Уверяю тебя, сравнения эти будут всегда в твою пользу. Поскольку воображение более охотно рисует идиллические, чем реалистические картины. Мы все, как на крючке, сидим на воображении, на том, чего в жизни вообще не бывает. Чтобы уж совсем не испортить ужин, я не стал напоминать Юрию о том, что он вроде бы и так уже «ушел», правда, не в том смысле, о котором он говорил. Хотя, похоже, что эффект от этого его экспедиционного ухода пока что нулевой. Сейчас же, несколько часов спустя, потому что разговор наш вчерашний затянулся далеко за полночь, передо мной сидел спокойный, красивый, мужественный, ироничный, хоть и немногословный молодой человек. Который совсем не походил на себя вчерашнего. Словно это были два абсолютно разных человека с очень похожей внешностью. — Жаль, что зелени не осталось. К сыру она была бы в самый раз, – посетовал Юрий и, взглянув на часы, добавил: – Закругляемся. Через час нам уже погружаться.
Я вышел на крыльцо. В прекрасное солнечное мартовское утро. Было так ясно, что на другом берегу Байкала проявилась череда гор. Синих с белыми снежными вершинами. Действительно, день был так хорош, что грех было не начать жизнь сначала!
* * * Нам с Юрием предстояло снять показания вертушек от пяти до пятидесяти метров, записывая их специальным грифелем на пластиковой белой пластинке размером в половину тетрадного листа, которая крепилась шнурком, продетым в отверстие на ней, к запястью левой руки. Страхующими были Сударкин и Резинков, что меня лично очень устраивало, потому что вселяло спокойствие. Погружались мы теперь постоянно из водолазки, куда и была перенесена дюралевая лесенка. Наружная же майна, которую приходилось каждое утро чистить от нарастающего за ночь двух-трехсантиметрового льда, оставалась аварийной, запасной, «на всякий случай». Но, к счастью, этих «всяких случаев» ни со мной, ни с кем другим больше не происходило. И я приписывал это везение счастливой майне водолазки. — Проверишь вертушки от пяти до двадцати пяти метров, – давал указания Резинков, помогая мне надевать шлем. – Карабанов пойдет от двадцати пяти до пятидесяти. — А можно наоборот? – попросил я Резинкова и перехватил на себе внимательные взгляды всех троих. — Не можно, – ответил Резинков и через секунду добавил: – А не дрефанёшь на глубине? И я почувствовал, что этот вопрос для себя он уже решил, а мне его задал просто так, для проформы, чтобы проверить мою решимость. — Сегодня у меня все получится, – уверенно ответил я. — Ну давай, дерзай!.. Тогда расклад такой: Карабанов проверяет приборы от пяти до тридцати, а ты ниже. Юрию предстояло записать показания шести «вертушек», расположенных друг от друга через пять метров, мне — четырех. — И чтобы никаких фокусов! Ниже пятидесяти пойдешь, вытянем как карася на крючке и выпорем, – уже обращаясь только ко мне закончил Резинков тоном приказа и забрал у меня водолазный нож, пристегнутый к голени правой ноги. – Ты следи там за ним, чтобы не шалил, – повернулся он к Карабанову, сказав это уже менее металлическим тоном. В тот день я и достиг своей рекордной глубины – пятидесяти двух метров. Я знал, что по веревке глубину можно определить лишь приблизительно, поэтому, записав показания нижней «вертушки», решил еще немного побыть на глубине. Какое-то хмельное чувство восторга прямо-таки зудело во мне. Не думаю, что это было глубинное опьянение. Хотя с годами я все менее уверен в этом. Я попытался на вертикальной плоскости воды, как бы прижатой здесь к отвесной скале каньона, пальцем написать имя «Инга», потому что вода казалась мне вязкой и упругой одновременно. Но вода капризничала, не оставляя никаких следов от выводимых букв. Тогда мне тоже захотелось немного покапризничать и опуститься еще ниже, в эту влекущую, простертую подо мной черноту, одним махом преодолев границу дня и ночи. Заработав ластами, я пошел вниз. И тут же почувствовал резкое сопротивление моего страхового конца. Уже почти в полной темноте я разглядел на своем манометре цифру 52. Отработав назад, уже не вниз, а вверх головой, я увидел на тридцатиметровой отметке зависшего надо мной Юрия и болтающуюся у его запястья, словно бирка на товаре, белую пластинку, и его руку, удерживающую мой страховой конец… И – кулак, которым он грозил мне свободной рукой. Это сравнение с товаром почему-то еще больше развеселило меня и я подумал, что Юрий является несомненно бестселлером, то есть – «превосходным товаром». Над ним наши страховые концы параллельно, прямыми тонкими лучами, уходили к проруби и золотистому рассеянному свету, просачивающемуся через лед. Я немного поддул в костюм воздуха и, придерживая рукой на голове свой клапан, чтобы он не стравливал его, как воздушный шарик, плавно пошел вверх. С тридцатиметровой отметки мы стали подниматься вместе с Юрием. Но метрах на шестнадцати, где я когда-то застрял у скалы, тормознув на минутку, я прихватил с собой красивую губку, держащуюся своим основанием на небольшом плоском гладком камешке. Так с камнем в руке я и поднялся на поверхность. Чем-то эта губка напоминала коралл или карликовое деревце. Такое, какие умеют выращивать аккуратные японцы.
* * * Ромашкин, приехавший к нам на лед, довольно легко отпустил меня на три дня домой, в Ангарск, спросив только: «А как плановые работы? На них твое отсутствие не отразится?». Я заверил его, и это была почти стопроцентная правда, что все идет точно по плану. — Ну, тогда езжай. Но через три дня чтоб был на месте. До Листвянки через часик мы тебя с Васей подбросим. Собирайся. Собираться мне особо было нечего. Просто свой полушубок я сменил на теплую спортивную куртку, а валенки – на меховые ботинки с толстой «тракторной» подошвой. А уже отмытую до белоснежности метели губку с розоватым камешком, аккуратно, чтобы не разрушить ее хрупкую красоту, я завернул в мягкую тряпочку и положил в небольшую картонную коробочку, поместив ее между одеждой, которую дома предстояло постирать. Все это уместилось в моей средних размеров спортивной сумке.
* * * В городе уже властвовала весна! Огромные сосульки свисали с крыш. Снег был пористый серовато-серый, неприглядный, уродливыми бордюрами лежащий вдоль разметенного и тоже серого асфальта тротуаров и дорог. «Натюрморт в серых тонах», – подумал я и еще: «Как в смирительную рубашку одеваем мы землю в бетон», – вспомнилось вдруг есенинское, когда я уже подходил к своему дому – серому, в середине серенького дня… И вдруг нежданно-негаданно все помрачнело, и началась настоящая веселая метель, в один миг забелившая все серое и скучное. Довольно резкий, словно только что вырвавшийся из запертого сундука, но совсем не злой ветер румянил щеки прохожих, заставляя их наклонять головы… Я взбежал по лестнице на третий этаж, открыл своим ключом дверь нашей просторной квартиры, почему-то радуясь тому, что дома никого нет, и тому, что я дома. Окна трех наших комнат и кухни выходили на противоположные стороны: на пустырь и песчаный обрыв, на вершине поросший сосняком – с одной и на просторный двор нашего квартала, внутри которого, впрочем, тоже росли стройные высокие гордые сосны – с другой стороны. Сняв в прихожей куртку и башмаки, я почти на полную громкость включил радио, найдя свою любимую радиостанцию «Ностальжи». В доме было чисто, тепло и уютно. Вода из крана упругой струей лилась в ванну. С встроенной в небольшую нишу чуть выше крана полочки я достал хвойный экстракт, крапивный шампунь, крем для бритья, помазок, одеколон «Престиж» и свой станок с лезвием «Нева». Под ласковое, успокаивающее журчание воды, сопровождаемое хорошей музыкой середины века, я расставил все это на квадратной белой крышке стиральной машинки, стоящей рядом с ванной, и был рад тому, что меня за этим сибаритским занятием не видит никто из моих экспедиционных товарищей. Переодевшись в своей комнате в полосатый коричневый махровый халат, мягкий и ласковый, как довольная, сытая, мурлыкающая кошка, я босиком по блестящему полу пошел в ванную комнату. Через распахнутую дверь кухни было видно, как за ее широким окном лихо отплясывает метель, одевая зеленые сосны в горностаевые манто. В большое зеркало в ванной я увидел, что кисти рук и лицо у меня от загара значительно темнее остального тела. Эта деталь почему-то рассмешила меня. И так, посмеиваясь над собой, я опустился в благоухающую хвоей пенную воду. Я даже немного вздремнул, поскольку не заметил, как пришла сестра. И лишь услышав за дверью ее голос, вспомнил где я. — …Надолго приехал? — На два дня. — Что приготовить на ужин? — Традиционное блюдо золотодобытчиков Клондайка – яичницу с ветчиной. — Вместо ветчины будет сало или колбаса «Ветчинная». Сгодится? — Меню утверждено! Я услышал удаляющиеся от двери ванной комнаты мягкие (значит, уже в домашних тапочках), почти неслышные шаги. Минут через двадцать я был чист, свежевыбрит и «престижно» благоухающ. — Ой, какой ты лохматый и загорелый! – воскликнула сестра, обернувшись от плиты, когда я вошел в кухню. — На льду всегда быстро загораешь. Представь, какая это огромная линза – Байкал. Она вытерла фартуком руки и поцеловала меня в щеку, тут же определив: «Отцовский «Престиж»? — Ну, да… — А почему не пользуешься тем, который я тебе подарила? — Берегу, – отшутился я. Хотя, честно говоря, не нравятся мне все эти изысканные заграничные ароматы, «делающие вас мужественными». Мне бы чего попроще. — А где родители? – спросил я сестру. — Уехали вчера вечером на два дня в деревню, к тете Кате. У нее юбилей, забыл что ли? Удивительное это качество – помнить обо всех, было, в отличие от меня, присуще моей сестре. Она никогда, никому не забывала подарить какую-нибудь, пусть даже безделушку, но зато вовремя, к дате. — Откровенно говоря, забыл. Ты же знаешь – хуже нет, когда не знал, да забыл. Я даже о том, что сегодня суббота, только что вспомнил. А так думал, вы все на работе. — Я и была на работе. Ведь библиотеки в субботу работают… Ну ладно, садись, будем ужинать. – Она выключила газ под сковородкой, на которой шкворчала яичница. – Режь хлеб. А я пока салатик из капусты настрогаю. — Инга не звонила? – спросил я за ужином. — Нет. А вот Маргарита раза два объявлялась. Все интересуется, когда ты приедешь. Морочишь девушкам головы, братец. — Как у тебя на работе дела? – чтобы перевести разговор на другую тему, спросил я. — Лучше чем могло бы быть, но хуже чем хотелось бы. Начальство наше, как всегда, впрочем, занято лишь ИмБурДе. — Это что еще за зверь такой? — Имитация бурной деятельности. «Умная у меня все же сестра, – подумал я. – И так мне с ней хорошо и спокойно». Наверное, зря я не сказал тогда всего этого вслух, хотя бы о том, что нам так хорошо быть вместе. — Когда ты уезжаешь? — В понедельник, с утра. — Значит, с родителями повидаться успеешь. Они завтра к вечеру вернутся. — Сейчас похвастаюсь тебе, что я купила по дороге домой. Сестра ушла в свою комнату и через несколько минут вернулась в… соломенной шляпке. — Ну как? – спросила она немного растерянно. – Идет? — Так зима же на дворе! – удивился я. — Ну, во-первых, не зима, а ранняя весна, по календарю. А во-вторых, лето ведь в этом году не отменяется. А женщине всегда хочется выглядеть красиво… Да и недаром же говорят: «Готовь сани летом, а телегу зимой»… Я как увидела эту прелесть, так сразу решила – куплю! Просто не смогла удержаться. Тебе нравится? — Нравится, – соврал я. Сестра в этой слишком вычурной какой-то шляпке выглядела немного нелепой и в то же время трогательно беззащитной. Ее хотелось обнять, оберегая от всех житейских неурядиц: от дуры начальницы, от любимой, но малооплачиваемой работы, от слишком резких сквозняков, да и от дураков мужиков – тоже, раз они не видят у себя под носом такого клада… — Я тебе сейчас тоже кое-что покажу, – сказал я ей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Ой, какая прелесть! – воскликнула она, увидев губку, когда я вернулся в кухню. – А что это такое? Потрогать можно? Это мне?! — Нн-нет. (Мне так хотелось сказать: «Да!») Но я тебе тоже обязательно привезу после экспедиции. — Инге? – спросила она, возвратив мне губку и почему-то сняв с головы шляпку. — Да. Ты же знаешь, у нее завтра день рождения. — По-моему, отличный подарок, – сказала сестра, не поджав при этом скорбно губы от того, что понравившаяся безделушка достается не ей. «Умная у меня все же сестра, как я уже говорил. Вернее, как уже думал. Может быть, оттого ей и в жизни так не везет в личном плане». — Два подарка в один день – это был бы уже перебор, – закончила она вслух какую-то свою мысль. И, рассматривая пристально шляпку, понесла ее в комнату, положить на полочку в шкафу, до лета. После ужина мы долго сумерничали с ней, беседуя о книжных новинках, политике, просто о житейских мелочах. Не говорили мы только о здоровье, которое было у нее, мягко говоря, неважным, и о котором она говорить не любила. Потом с медом и подогретым молоком мы пили зеленый чай, который сестра очень любила. К девяти вечера я помог ей прибраться в кухне, и мы пошли посмотреть программу «Вести». — Узнаем, что в мире делается. А то живем там на льду совсем безвестные, без вестей в смысле. — Да ничего в мире не делается нового. Все то же и все те же, – ответила мне сестра. – Радио же вы слушаете, а по телевизору то же самое, только с картинками. Все это время, начиная с приезда домой, я ждал, что Инга позвонит и хотя бы поинтересуется, приехал ли я. — Ну ладно, пошла спать. Что-то подустала сегодня. Посетителей было много, – сказала сестра после того, как мы посмотрели новости, где бесконечные безумства мира были со всей очевидностью продемонстрированы на телеэкране. – Хорошо, что завтра воскресенье. Высплюсь. Она пошла в ванную. И я знал, что это надолго. Она всегда очень тщательно чистила зубы. По какой-то особо хитрой системе, тоже очень тщательно и в разных направлениях, расчесывала свои прекрасные волосы, подолгу держала ноги в воде с морской солью. Лицо мыла настоем ромашки. В общем, делала тысячу необходимых, по ее разумению, для женщины дел. Причем основательно и со вкусом. Я перенес телефон в кухню и набрал Ингин номер. К телефону подошла ее мать Наталья Сергеевна, которой я в день нашего с ней знакомства, примерно год назад, сделал верный комплимент, после чего ее потенциальная и ничем не обоснованная неприязнь ко мне, впрочем, как и к другим Ингиным знакомым мужеского пола, сменилась нежной заговорщицкой дружбой. А сказал я, в общем-то, весьма простую вещь. Когда Инга в первую нашу встречу с Натальей Сергеевной в их доме представила меня вышедшей в прихожую из гостиной матери: «Это Игорь, о котором я тебе говорила…», та очень сдержанно и даже холодно подала мне руку и ответила: «Наталья Сергеевна». И после очень незначительной заминки добавила: «Мать Инги». Этой запинки мне и хватило, чтобы разгадать один из секретов этой не желающей сдаваться времени красивой женщины. И я как можно искреннее произнес: — А я подумал, что вы Ингина старшая сестра. Если уж быть откровенным, то при всей моложавости, моей очень старшей сестрой она еще могла бы быть, а вот Ингиной, все же, вряд ли. Тем не менее мой лобовой комплимент угодил, как говорится, в самую точку. Наталья Сергеевна слегка улыбнулась и ответила: «За сестру, конечно, спасибо, а впрочем, ваши сверстники иногда на улице действительно окликают меня: «Девушка!», – оживилась она.
— Алло, – услышал я довольно низкий голос уверенной в своей неотразимости женщины. – Слушаю вас. — Наталья Сергеевна, это Игорь Ветров. Инга дома? — Игорь, по-моему, она спит. Но я ее сейчас подниму. И я услышал и представил, как она из их просторной прихожей, где стоял стилизованный под начало века белый телефон, кричит в сторону Ингиной, всегда почему-то запертой, комнаты: «Инга! Это тебя. Возьми трубку…» Через некоторое время я услышал тихий сонный голос Инги. — Алло… Слушаю… Кто это? — Представьте, сударыня, что, может быть, это звонит ваша судьба? – постарался я говорить как можно веселее, вспомнив резинковское наставление: «По жизни, дружище, надо шагать шутя». — Судьба так поздно не звонит… Это ты? — Да. Разбудил? — Ага… У меня сегодня был очень трудный день, да еще усиленная тренировка. Патрон просто озверел перед соревнованиями. — Тренировка, в такой буран, как сегодня, когда и льда-то под коньками наверняка не видно?! Ты что, в любую погоду тренируешься? – я все никак не мог найти нужного тона и чувствовал, что говорю совсем не о том, о чем думаю и о чем хотел бы ей сказать. — В непогоду с еще большей прытью, – начала она вроде бы шутя, а закончила уже всерьез, – поскольку мне тогда надо бороться не только с собой, со своей ленью, но и со стихией. Ветром, снегом, дождем ли… А мне на Медео понадобится очень много сил, потому что соперницы у меня будут там совсем не тихие. Особенно немки… Игорь, все, заканчиваем. Мне надо выспаться, чтобы завтра быть красивой. Увидимся. Приходи часам к трем, – уже совсем упавшим голосом, словно на столь пространную речь у нее ушли остатки сил, договорила Инга. — Пока… — Пока, – ответил я уже в пустоту.
* * * Я так отвык от костюма и галстука, что казался себе в этом одеянии каким-то нелепо-несуразным. Взяв подарок для Инги, я отправился к ней. Благо, что идти от нашего до ее дома совсем недалеко. — Игорь! Сильно не задерживайся, – крикнула мне сестра, когда я уже выходил на площадку. Дверь в ее комнату была нараспашку. – Родители ведь сегодня приедут, – закончила она уже на пороге своей комнаты. Дверь мне открыла Наталья Сергеевна. Она была великолепна, как сверкающий в дорогой оправе бриллиант! А декольте ее вечернего платья было настолько смелым, что, казалось, грудь просто выпадает наружу. Беломраморные же плечи, напротив, прекрасно чувствовали себя, не скованные излишним материалом. — Проходи, Игорек. Все уже почти собрались. Нет только Александра Михайловича (так она называла своего мужа) и некоторых Ингиных однокурсников, которые вот-вот должны подъехать из Иркутска. — Наталья Сергеевна, вы просто великолепны, – продолжил я играть уже заученную мной здесь роль. Впрочем, на сей раз совсем не слукавив, и поцеловал ее такую же беломраморную руку, оголенную до локтя. А про себя подумал: «Жаль, что Инга больше похожа на своего отца – высокого, сухощавого, немногословного человека, который по причине постоянной занятости на высоком посту заместителя директора электролизно-химического комбината, дома только что ночевал, да и то не всегда, «сгорая на работе», как говорила о нем Наталья Сергеевна. — Игорь! Иди сюда, поможешь мне, – услышал я из кухни веселый голос Инги, который вмиг разогнал все мои неясные тревоги. Она была также очень хороша! Ее светлые волосы, в отличие от непроницаемо черных густых волос Натальи Сергеевны, всегда гладко зачесанных, были взбиты в какую-то невероятно легкомысленную и одновременно очень трогательную и замысловатую прическу. Обильный, но едва заметный румянец играл на щеках. Идеально прямой нос с чувственными ноздрями придавал классическую законченность лицу, единственным недостатком которого были, пожалуй, глаза. Светло-голубые, становящиеся почти стальными в минуты гнева. Эту их метаморфозу я уже знал… Но сейчас и глаза искрились веселыми огоньками, а губы улыбались. Вытерев руки о фартук, одетый поверх темного платья, плотно облегающего точеную тренированную фигуру, она ткнула себя пальцем в щеку, давая понять, куда я должен ее поцеловать. От щеки пахло весенней свежестью и… талым снегом. А может быть, просто этот запах занес ветерок, просочившийся к нам в растворенную форточку кухни… — Это тебе. – Я достал из коробки свой подарок и протянул его. – Она росла на пятидесятиметровой глубине, – невольно более чем в три раза прибавив глубину, с которой я достал губку, сказал я. — А что это такое? – спросила она, слегка наморщив нос. — Байкальская губка. — Славная. Поставь ее пока там, на подоконнике. Спасибо, Игорь… – И вновь переключившись на готовку салата, скомандовала: «Режь вон тот пучок кинзы с петрушкой, а потом перец и лук». Я снял пиджак. — Ты что, под кварцевой лампой загорал? – спросила Инга, будто бы только что разглядев меня. — Да нет, на льду… — Что-то я на льду так никогда не загорала, – засомневалась она. – Ты весь такой или фрагментарно? — Весь, – ответил я, чувствуя, что ее вопросы почему-то начинают раздражать меня. — Ну чего ты злишься? – примирительно сказала она. – Я ведь просто так спросила, безо всякой задней мысли… Не отвлекайся, режь зелень. Уже пора за стол. Во входную дверь позвонили. Инга выглянула в коридор и бросив мне: «Я сейчас!», кинула на табурет свой фартук, вышла из кухни. В прихожей стояли две щебечущие девушки и молодой человек с красивыми карими глазами и мужественным смуглым лицом. Он был примерно того же возраста, что и я, но значительно выше ростом. Вошедшие поочередно протягивали Инге яркие свертки, что-то говорили, весело щебеча, чмокая в щеку. Она же только успевала повторять: «Спасибо. Спасибо…» — Ой, какая прелесть! – воскликнула она, когда после девушек молодой человек с идеальным пробором в густых черных волосах отдал ей маленькую, обтянутую синим бархатом коробочку. — Костя, ты заслужил поцелуй, – сказала Инга, раскрыв коробочку, и прикоснулась своими ярко накрашенными губами к его идеально выбритой щеке. И тут же след помады розочкой расцвел на ней. — Что я наделала! Оставила на тебе свою метку, – засмеялась она. – На, сотри. – Инга протянула Косте свой белый носовой платок. – Проходите в комнату, – обратилась она уже ко всем. – Больше никого ждать не будем. Сейчас мы с Игорем только зелень принесем и начинаем! — А Александра Михайловича разве не подождем? – уже, по-видимому, заранее зная ответ, как-то неуверенно спросила Наталья Сергеевна, вышедшая из гостиной. Инга, ничего не ответив ей, понесла подарки в свою комнату. А моя губка так и осталась стоять на широком подоконнике – между кочаном капусты и кастрюлей с отваренной для пюре картошкой. В гостиной все разместились за старинным овальным столом. Одноклубники Инги по спорту, однокурсники, подруги, друзья, тренер. — Мы решили сначала для молодежи все устроить, – садясь слева от меня, тоном заговорщицы сказала Наталья Сергеевна. – А к ужину – родственники придут. Все-таки в жизни раз бывает такая круглая – две десятки – дата, – вздохнула она о чем-то, похоже, уже о своем. — Костя, открывай шампанское! – командовала Инга. – Девочки, накладывайте сами, – обратилась она к подругам, – кому что нравится. Мужчины, ухаживайте за дамами, – приказала она мне и тренеру. — Вам что положить? – обратился я к Наталье Сергеевне. — По бутерброду с красной и черной икрой, кусочек копченого омуля, немного зелени и ложечку свекольного салата, вон того, с грецкими орехами. У меня сегодня рыбный день, – словно извиняясь пояснила она свой выбор. — А вам? – обратился я к Инге, сидящей справа от меня. Место справа от нее было свободным, поскольку предназначалось для Александра Михайловича. — Разве мы перешли на вы? – спросила она рассеянно. Я ничего не ответил. — Ну что ж, сударь, раз вы так любезны, – после паузы проговорила Инга, и я заметил, как ее глаза начали постепенно обесцвечиваться, – положите мне несколько кусочков буженины. Думаю, это не повредит моей фигуре. Немного грибов с папоротником и кусочек овсяного хлеба. Подошедший к ней Костя предложил шампанского. — Нет, лучше красного вина, – ответила Инга, и я заметил, что глаза у нее стали вновь обычного светло-голубого цвета. — А вам? – спросил он меня дружелюбно, с обескураживающей улыбкой. — Пожалуй – водочки, – ответил я, тоже улыбнувшись ему в ответ. И мне хотелось, чтобы моя улыбка была такая же естественная, как у него. — Я тоже – водочки, – почти в унисон со мной на его обращение ответила Наталья Сергеевна и взяла совсем малюсенькую хрустальную рюмочку. — Я хотел бы поднять первый тост за нашу юбиляршу, – с бокалом в руке встал тренер Инги Павел Васильевич. – За ее целеустремленность, упорство в достижении цели, за ее красоту наконец! И я уверен, что на предстоящих соревнованиях в Алма-Ате, к которым мы очень серьезно готовимся, она осуществит наконец-то свое сокровенное желание и станет мастером спорта международного класса. И имя Инги Батутите встанет в ряд с другими выдающимися конькобежцами нашей страны. Она это уже давно заслужила. За именинницу! – Он подошел к ней и наклонившись символически чмокнул в щеку. «Какой-то сегодня целовальный день, – подумал я. – Если так дальше пойдет – никакая щека не выдержит, прохудится». Все выпили. И вилки дружно заходили по тарелкам сервиза, сработанного не серийно, а по индивидуальному заказу из прекрасного местного сырья на местном же Хайтинском фарфоровом заводе. Обстановка за столом после первого тоста, как всегда бывает в подобных ситуациях, стала более раскрепощенной и гомонливой. Каждый что-то хорошее хотел сказать Инге или своему соседу, соседке. Реплики, как яркие разноцветные мячи, перелетали от одного к другому, сопровождаемые улыбками и смехом. — Второй тост полагается выпить за родителей, – как записной тамада вновь поднялся с наполненным бокалом Павел Васильевич. Крепкий, с седыми висками пятидесятилетний мужчина в свитере грубой вязки с узорами северных народов, явно приобретенном в Норвегии или Швеции. – Очень жаль, что нет Александра Михайловича, отца Инги… – продолжил он. А Наталья Сергеевна, которой я вновь, как и себе, налил маленькую, почти наперсточную, рюмочку водки, горячим шепотом на ухо мне сказала: «Если он будет гнать в таком темпе, как на пятисотметровке (Она очень хорошо усвоила за годы тренировок дочери все эти «пятьсот», «тысяча», «три тысячи метров», поскольку весьма пристально следила за ее спортивной карьерой.), мы с тобой, Игорек, под столом к концу обеда окажемся. А мне еще надо будет родственников вечером принимать. Костя же, как я заметил, разлив Ингиным однокурсницам, весьма простеньким девушкам (в окружении Инги и не было красивых подруг) шампанское, свой бокал вновь наполнил минералкой. — Наталья Сергеевна, кто это? – указал я на него глазами, тоже говоря заговорщицким шепотом. — Костя Придеин. Они с Ингой в одной команде тренируются. Результаты у него не ахти какие, – с видом профессионала констатировала она, – но мальчик он упорный и из хорошей семьи. — Но зато здесь, – продолжал свой нескончаемый тост хорошо поставленным, слегка скрипучим от постоянного пребывания на льду голосом тренер, – присутствует несравненная Наталья Сергеевна. Моя соседка по столу при его поклоне в ее сторону любезно улыбнулась, и я подумал, что, по-видимому, не один знаю ее маленькие секреты – всегда и во что бы то ни стало быть самой неотразимой. — …И мы здесь наглядно, так сказать, видим, что Инга унаследовала от своей матери красоту (это было хоть и не явное, но все же, преувеличение), а от отца – упорство и ум. Здесь тренера явно занесло не туда, хоть он и не перегнул, в общем-то, палку, но, к счастью, Наталья Сергеевна, на которую я взглянул краешком глаза, по-видимому, даже не заметила этого не совсем уместного и весьма двусмысленного сравнения, очень рассеянно слушая сей затянувшийся тост… — …Потому что Инга не только хорошая спортсменка, но и прекрасная студентка, – тостирующий, кажется, совсем запутался и нагнал на всех уже беспросветную скуку… К счастью, двустворчатая дверь гостиной распахнулась, и на пороге показался Александр Михайлович, как всегда в безупречном костюме, белой рубашке и галстуке. Его появление внесло некоторую сумятицу и оживление. Он же, не повышая голоса, произнес: «Добрый день». Подошел к вставшей ему навстречу Инге, поцеловал ее в лоб и также негромким внятным голосом продолжил: «Поздравляю с днем рождения. Подарок – у тебя в комнате». И, уже обернувшись к Наталье Сергеевне, словно они здесь были совсем одни, закончил: «Я только вымою руки и приду». И вновь обратившись ко всем, добавил: «Продолжайте, пожалуйста, я, кажется, вам помешал». Это уже относилось к оратору. — Нет, нет, Александр Михайлович, – запротестовал тот, обращаясь к отцу Инги по имени-отчеству, хотя, скорее всего, они были ровесники. – У нас как раз тост за родителей. — Тогда налейте мне шампанского. Я присоединюсь к вам. Всегда приятно, когда в твою честь произносят тост. Правда? – вдруг весело подмигнул он Наталье Сергеевне, сразу как-то преобразившись в свойского парня. И тем не менее в его присутствии я всегда чувствовал некую скованность от его спокойного проницательного взгляда, словно просвечивающего тебя насквозь. Сегодня же испытывал и вообще двойную неловкость, чувствуя себя белой, а вернее – коричневой вороной, составляя резкий контраст с преобладающей за столом бледностью Ингиных друзей. Мне сразу захотелось спрятать под стол свои руки, когда я взглянул на холеные, длинные «музыкальные» пальцы Александра Михайловича. Спокойно дослушав бесконечный тост, он молча выпил бокал шампанского и приготовился встать. — Чего тебе положить? – спросила Инга, когда он начал подниматься. — Да я сам потом чего-нибудь возьму… Впрочем, на твое усмотрение, – добавил он, перехватив ее удивленный взгляд. Все-таки с отцом Инга была более близка, чем с матерью. И это было очевидно, хотя, пожалуй, не для всех. Александр Михайлович ушел, сказав напоследок: «Продолжайте. Не обращайте на меня внимания». Хотя не обращать на него внимания было трудновато. За ним из гостиной вышла и Наталья Сергеевна, а я, чтоб не сидеть столбом, спросил из-за чего-то расстроившуюся Ингу: — А много у тебя сокровенных желаний? Ведь тренер наверное знает лишь одно из них и, скорее всего, самое поверхностное. — Много… – вдруг устало ответила она, накладывая в плоскую тарелку отца салат с кукурузой и крабами. — Сказать можешь, какие? Или это секрет? — Могу. Я хочу стать чемпионкой мира – раз. Хочу хорошо закончить институт – два. Хочу встретить надежного и не бедного человека – три… (Если первую часть ее третьего сокровенного желания я еще мог как-то примерить на себя, то его вторая половина уже никоим боком ко мне не подходила.) Хочу иметь свой дом (Ингины загады все дальше и дальше отдаляли нас, хотя и я желал бы того же), хорошую семью, здоровых ребятишек… Достаточно или продолжать? – спросила она. — Вполне достаточно, – ответил я. А про себя подумал: «Могут ли считаться обычные, в общем-то, желания любого нормального человека сокровенными?» Где-то в середине застолья, когда Александр Михайлович уже окончательно удалился, теперь к себе в кабинет – отдохнуть, я понял, что мы с Натальей Сергеевной изрядно надрались. Я бы даже сказал «почти до ватерлинии», и свидетельством тому мог быть мой не очень вежливый ответ на ее вопрос. — Игорь, ты почему не попробуешь селедку под шубой? — Вы знаете, Наталья Сергеевна, у меня к этому блюду двоякое отношение, – я слегка задумался. – С одной стороны я его сильно не люблю, а с другой… страшно ненавижу. — Ха-ха-ха! – весело и громко рассмеялась Наталья Сергеевна, панибратски толкнув меня в бок локотком, словно я только что сказал ей что-то очень смешное. – Ну уморил, Игорек! Может быть, тогда винца? – уже тише спросила она. — По убывающей нельзя. Можно только по возрастающей: от пива – к вину – водке, а не наоборот, иначе можно напиться. — Ну, тогда еще по рюмочке? — Можно, – ответил я, вдруг почувствовав необъятную пустоту и сосущую тоску внутри себя, осознав, что мне, как раненому зверю, пора уходить в свою «берлогу» зализывать раны. И здесь вопрос был лишь в том, можно ли «зализать» раны душевные самостоятельно без посторонней помощи? Ведь в обычной жизни это работа Бога Времени – Хроноса. Тренер в то время, пока мы «опрокидывали» с Натальей Сергеевной «по мензурке» и закусывали, уже танцевал на другой, полузатемненной половине гостиной с хрупкой курносенькой подругой Инги, которая дотягивала своей макушкой лишь до его могучей груди. Сама именинница тоже танцевала, с Костей. И надо честно признать – они были великолепной парой. В них чувствовалось некое непринужденное высокомерие, присущее высокоэлитной человеческой породе. То высокомерие, которое ставит перед собой высокие мерки и… достигает их, во что бы то ни стало. «Кому девушка, а кому водка», – с грустью подумал я и продолжил свои мысли приказом: «Пьянству – бой!», вспомнив при этом шутку моего приятеля, врача: «Спорт наш друг – мы его не трогаем. Алкоголь наш враг – мы его уничтожаем». Но шутка эта, увы, не рассмешила. Мне по-прежнему было тоскливо и одиноко. — Не останешься на ужин? – спросила меня в прихожей Наталья Сергеевна, когда я засобирался по-тихому скрыться. — Нет, мне пора. Родители от маминой сестры должны вернуться. Да и мне завтра рано вставать. Надо выспаться, – ответил я вполне разумно. А про себя подумал: «Проигрывать надо с достоинством». — Инга! Игорь уходит, – повысила голос Наталья Сергеевна. Инга вышла из гостиной. — Может быть, побудешь еще полчасика. Скоро уже все начнут расходиться. И торт ты мой так и не попробовал. В прихожей мы были одни. — Да нет, пора. Я завтра рано уезжаю. — Мне тоже завтра уезжать. Но вставать, слава Богу, не рано… Мы даже не поговорили с тобой как следует… Если бы она знала, как мне этого хотелось. Просто так сидеть с ней вдвоем и говорить. Или даже молчать. Ведь молчать рядом с любимым человеком совсем не тягостно. — Оказывается, это очень грустное занятие – справлять юбилей, – незнакомым мне тусклым голосом проговорила Инга. – У тебя ведь тоже скоро день рождения? — Да. Двадцать три стукнет. — Старикашка, – по-доброму сказала она и потрепала меня рукой по волосам. – Что тебе привезти из Алма-Аты? — Кусочек льда с высокогорного катка Медео, если ты выполнишь норму мастера спорта международного класса, и – себя. — А если не выполню, себя не привозить? — Привозить, конечно. Просто тогда ты мне подаришь кусочек льда из своего сердца, – словно кто-то дернул меня за язык. — Ладно, – согласилась она, словно и не обратив внимания на мои последние слова. – Пока… — Пока, – второй раз за сутки, прощаясь, произнес я это слово в пустоту… Инга как-то очень устало чмокнула меня в щеку. — Ой, я тебя вымазала помадой, извини. Я думала, что она уже вся стерлась. Подожди – сейчас сотру. Она взяла бумажную салфетку с журнального столика, стоящего в прихожей. — Не надо. Пусть поцелуй твой светит мне во мгле. — Не паясничай, Игорь. — Не буду. — Неужели ты бы ушел, не простившись со мной? – спросила она. — Да, – ответил я. — Ну, иди… Наверное, если б я смог в тот момент посмотреть на себя со стороны, то горько расплакался бы от жалости к себе. Но я себя со стороны не видел, а видел только изнутри. Отчего картина не становилась менее печальной. На улице мне стало немного легче. И даже как-то порадовал мерцающий средь фонарей веселый, редкий и совсем бесприютный весенний снежок…
* * * На ранний автобус я проспал. А потому приехал в Листвянку лишь во второй половине дня. И, не заходя в институт, сразу же отправился пешком по едва заметной кое-где на снегу дороге, ведущей по льду Байкала в Большие Коты. Настроение было и без того неважное, а тут еще одинокий, безжизненный какой-то, застывший, в прямом и переносном смысле слова, пейзаж. И я один посреди этой ледовой бескрайности… Довольно быстро начали сгущаться скучные сумерки. И единственным моим ориентиром стал высокий скалистый, поросший сверху лесом, берег слева от меня, более темный, чем пространство надо льдом. И вот, когда уже почти ничего нельзя было разглядеть вокруг и я стал сомневаться, туда ли я иду, вдалеке показалось несколько желтых манящих огоньков, которые могли быть только огнями нашей базы. Я зашагал быстрее, искренне радуясь тому, что скоро увижу своих друзей… Когда вошел в вагончик, все как раз ужинали. Запах тушенки с луком сразу приятно пощекотал мое обоняние, а дни, проведенные в городе и особенно вчерашний, вдруг отодвинулись куда-то далеко-далеко, словно все произошедшие в них события случились очень давно, в какой-то другой, не самой моей счастливой жизни. Я не ожидал, что все так обрадуются мне. Именно мне, а не тем домашним подаркам, которые я привез из дому и которые нехотя захватил с собой только после настойчивых просьб мамы «угостить чем-нибудь своих товарищей». — Ну, что, – после того, как прекратился всеобщий гомон, похлопывания по плечу, приветствия, – удачно съездил к любимой девушке, малыш? – спросил Резинков, ставя на стол передо мной тарелку макарон с тушенкой. — Удачно, – ответил я, отморозив при этом еще какой-то очень веселый, по моему мнению, каламбур, касающийся любимых девушек вообще. Но по тому, как все вдруг стали вежливы и предупредительны со мной, понял, что дела мои, похоже, безнадежно плохи. И именно эту безнадегу, прикрытую бравадой, они во мне и разглядели. — Ничего, старик, – проронил вдруг обычно немногословный Давыдов, – девушки приходят и уходят, а друзья остаются. – И предложил, кстати, выпить понемногу за мой приезд, потому что «сухая ложка рот дерет». Что тут же с завидным энтузиазмом и было исполнено, заодно открыта банка маминых солений с огурчиками и распакованы аккуратно уложенные – рядами – завернутые в пергаментную бумагу и тряпочку еще теплые пирожки со свеклой, капустой, печенью. — Ледовая обстановка неважная, так что до середины апреля вряд ли дотянем. Недели через две, скорее всего, будем сниматься. Весна в этом году для Байкала необычайно ранняя. Гидрометцентр предупредил, чтоб не затягивали пребывание на льду. Ромашкин приезжал, сообщил об этом, – поведал мне самую главную новость Карабанов. — Сыграй, дружище, – попросил меня к концу ужина Путилов. Я не заставил просить себя дважды. Тем более, что нам всем вместе осталось быть так недолго. Струны гитары издали первые звуки, а после нескольких аккордов и фраз прекрасную песню Юрия Визбора подхватили и остальные. «Месяц кончается март. Скоро нам ехать домой…» И, как ни странно, именно эта перспектива – отъезда домой, меня во всяком случае, совсем не радовала. — Здравствуйте, хмурые дни. Горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край… – перебирал я струны гитары, подстраиваясь под общий не очень склад- ный хор. — Что ж ты стоишь на тропе? («На моей тропе, похоже, уже никто не стоял».) Что ж ты не хочешь уйти? Нам надо песню допеть, нам надо меньше грустить («Это уж точно!») Снизу кричат поезда. Месяц кончается март. Ранняя всходит звезда. Где-то лавины шумят… Лавины, правда, нигде у нас тут не шумели. А вот небо сплошь было усеяно целой россыпью крупных задумчивых звезд, которые мы лицезрели, выйдя почти всей командой – отлить. Не было только Мурахвери, которого Света, еще до моего прихода в лагерь, увела ужинать домой. — Разверзлась бездна звезд полна. Звездам числа нет – бездне дна, – продекламировал кто-то из Ломоносова. А я сказал: — Поскольку мы все пописали почти на брудершафт – нам нельзя расставаться, друзья! — А мы и так не расстанемся, – задумчиво проговорил Сударкин, – потому что у памяти нет срока давности… А Резинков, словно втолковывая мне азбучную истину, добавил: — Прошлое не умирает. И оно даже не прошлое. А то, что всегда будет с тобой и в тебе… — …Потому что все видимое – временно. Невидимое – вечно, – добавил Карабанов. И после секундного раздумья, словно удивляясь своему открытию, изрек еще: – Ведь время всегда есть. И его всегда нет. И только Давыдов с Путиловым промолчали, потому что Коля сосредоточенно, а Путилов блаженно улыбаясь продолжали журчать в две струи. А я подумал: «Как здорово однако все мы набрались». А эта фраза, по созвучию, вытащила из закоулков памяти другую, уже из другой песни: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» И с тем и с другим невозможно было не согласиться.
* * * Лед по краям наружной лунки чернел от солнца и день ото дня как будто истончался. Постепенно мы стали упаковывать и отправлять в Листвянку «малыми партиями» пробы, уже ненужное, сделавшее свое дело оборудование с институтской машиной, на которой Ромашкин приезжал теперь почти каждый день, поторапливая нас с завершением работ. И вот в этой «чемоданной», а точнее – коробочной обстановке, среди всеобщего раскардаша и спешки у Светы Мурахвери случился день рождения. Она передала через Сашу, что приготовит яблочный пирог и вечером ждет нас всех к себе на чай. Мы же решили отметить этот день поднятием нашего подводного дома, без которого уже могли обойтись, поскольку работы под водой теперь бывали, в основном, кратковременные. И, поскольку Путилов с Давыдовым уехали в деревню, в магазин к «Тете Зое», имя которой местные жители расшифровывали как «Змея особо ядовитая», купить вина и, может быть, присмотреть Светлане какой-нибудь подарок, – чугунные чушки, теперь уже из воды, предстояло снова таскать мне, но теперь в паре с Карабановым. Резинков с Сударкиным прикрепляли их внизу. После сигнала: «Пошел!» я, в темпе отбегая от лунки, тянул веревку, ощущая упругую тяжесть болванки и воды, видя, как веревка врезается в лед, каждый раз оставляя в нем неглубокий желобок, похожий на круглый запил. Очередная болванка выскакивала на лед. И ее оставалось только подтянуть к себе и развязать. А утяжеленная несколькими гайками веревка снова охотно погружалась в воду. «Да, лед уже неважный. Не тот монолит, что был в начале экспедиции». Я припомнил, как не так уж давно мы опускали этот балласт вниз, и вся наша экспедиция была еще впереди. От этих мыслей мне почему-то расхотелось бегать, озорства ради, туда-сюда по льду. И я стал просто монотонно и методично выбирать веревку с грузом, хотя это и было значительно труднее. Но все же, несмотря на то, что ощущение близкого расставания словно пропитало насквозь все эти последние дни экспедиции, в душе жила какая-то затаенная радость. Да и день был такой замечательный! Такой беззаботно солнечный и голубой! Мы с Юрием не вынули и половины чушек, как подводный дом, несколько раз качнувшись, словно пробуя свои силы, начал медленно подниматься из глубины, таща за собой корзину с оставшимся балластом и большим кислородным балло- ном в ней. В нескольких метрах от поверхности он вновь остановился, как бы раздумывая, что ему делать дальше. Было вынуто еще несколько чушек, и дом медленно, почему-то очень страшно, как серая подводная лодка, вновь пополз вверх и на четверть показался из воды. Когда последний балласт был выбран из корзины, дом, словно поплавок, выдавился на поверхность, завалившись при этом, уже на льду, набок. Было решено отбуксировать его волоком, прицепив к мотоциклу, на берег, к старому причалу, возле которого находилась компрессорная для заправки баллонов аквалангов. Мы были уверены, что он нам еще понадобится. Во всяком случае, на следующий год – уж точно. Для следующей ледовой экспедиции. Потому что наших «планов громадье» было рассчитано минимум лет на пять. И никто тогда не знал, что эта комплексная ледовая экспедиция по сути дела будет первой и последней, потому что другие, запланированные, по разным причинам не состоятся. Или состоятся в сильно урезанном виде по времени и по программе. Через много лет я как-то летом оказался в Больших Котах… Проходя мимо дома, где когда-то жили Света и Саша, я увидел, что от написанного им некогда названия улицы: «Набережная Жака-Ива Кусто, дом 1» уцелела лишь часть текста, складывающаяся теперь в иную, какую-то магическую фразу: «Набережная Ж… Ива … сто» – «Набережная Жива сто». Действительно, берег в этом месте почти провалился, а набережная еще жива, хотя обрыв подходит уже почти к самой дороге. А подводный наш дом, и доныне лежащий у причала, так больше никем ни разу никогда и не использовался. Его почти замыло песком. И только часть корпуса видна теперь снаружи. Краска облупилась, и из-под нее, как язвы, проступает ржавчина. Иллюминаторы разбиты или выдавлены льдом. И острые осколки плексигласа торчат теперь по кругу, как хищные зубы акулы. Я присел на прогретый песок рядом с домом, вернее, с видимой его частью. Мимо сверху веселой гурьбой шагали беспечные неугомонные «студиозы», как всегда, проходящие практику в Котах. Лохматые, поджарые, в минимуме одежды парни. И очень славные, симпатичные девушки в купальниках, весело смеющиеся шуткам своих попутчиков. Из нынешних студентов уже, пожалуй, никто и не знает, как и когда здесь, возле «водолазного причала», появилось это нелепое сооружение. «А помнит ли теперь сам дом то веселое свое новоселье? То беззаботное время, когда казалось, что впереди всех нас ждет непременно что-то очень важное и обязательно хорошее…» «Да, молодость, конечно же, прекрасная пора! Имеющая, правда один существенный недостаток – она очень быстро проходит. А надо ведь и дальше потом как-то жить, наверное зная, что, может быть, самые счастливые дни твои уже минули. И что мы никогда уже не будем молодыми…» Именно эту, такую простую и такую горькую истину я вдруг со всей отрезвляющей очевидностью осознал в тот момент. Похлопав дом по его прохладному боку, я тихо, словно это была только наша с ним тайна, спросил: «Что, одиноко тебе, дружище, здесь одному теперь торчать?» Металл отозвался на хлопок ладони глухим звуком, похожим на очень далекое эхо. А набежавшая волна с печальным вздохом принесла очередную горсть песка… Но тогда, на льду, когда наш дом еще влажно блестя лежал на боку, я не думал о печальных истинах Экклезиаста: «Все из праха и все возвратится в прах». И горьких мыслей таких у меня еще не было. Напротив, я чему-то радовался и даже смеялся, как и все остальные. Может быть, еще и потому, что видел, как к нашему лагерю стремительно с двух сторон приближаются движущиеся средства. Со стороны деревни – мотоцикл «Урал» с Давыдовым за рулем и с Путиловым в люльке, по позе которого можно было и невооруженным глазом определить, что он бережно и напряженно держит на коленях что-то очень хрупкое и ценное. — Опять, наверное, купили дюжину бутылок «доброго русского портвейна «Иверия», – безошибочно определил кто-то. Оно и не мудрено, поскольку выбор у тети Зои был невелик. Хлеб, спички, соль, вино, водка. Последнее – в изобилии и всегда, в отличие от остального. Со стороны города, «в кильватерной колонне», приближалась целая кавалькада легковых автомашин. Мы догадались, что это наверняка телевизионщики и газетчики, вдруг, после неоднократных обещаний о приезде, вспомнившие о нас и об уникальности нашей, подходящей к концу, экспедиции. Ведущим этого разноцветного каравана был красный «жигуленок» Ромашкина, который предупредил нас заранее, что «на днях к нам нагрянет пресса» и чтобы «никаких там Моби Диков!» А поскольку встреча машин и мотоцикла в заданной точке была неизбежна – это смешило всех. И мы гадали, сообразит ли Давыдов тормознуть за вагончиком, чтобы Путилов успел сунуть в рундук с дровами сетку с вином. Именно так все и произошло. Пока репортеры с фотокорреспондентами высаживались из машин, суетились вокруг майны и поднятого дома, а телевизионщики «выбирали нужный ракурс» для съемок, Путилов сделал свое дело и, выйдя из-за вагончика с видом наивного младенца, прямой, как шпага, простой, как лом, подошел к Резинкову и сообщил ему, что подарка Светлане они не добыли. — Нечего там для нее купить. Одеколон и тот местные алкаши выпили, – доложил он, искренне осуждая последних и возмущаясь столь низким падением нравов. — Ладно, я тогда, пока в костюме, метров на пятьдесят схожу, – явно тяготясь присутствием назойливых репортеров, щелкающих затворами фотоаппаратов, сказал Резинков, повернувшись к Сударкину. – Подстрахуй меня. Там что-нибудь для Светки достану. — А воздуха хватит? – спросил Сударкин. — Должно хватить, – беззаботно бросил Резинков уже на ходу. — Только не лихачь. И на глубину особо не лезь, – опять спокойно проговорил Сударкин. — Не бойся, сегодня слишком хороший день для того, чтобы умереть. Во фразе Резинкова была явная двусмысленность, но, похоже, они хорошо поняли друг друга. Коля исчез под водой, а Ромашкин, подойдя к майне и встав к ней спиной напротив телекамеры, стал наговаривать текст. — Дорогие телезрители, только что вы стали свидетелями того, как водолаз погрузился под воду. Сейчас там, на глубине, он проверит и запишет показания приборов (которые уже дня два, как были сняты), установленных в подводном каньоне. Затем все эти уникальные научные данные будут обобщены и… Под его плавно журчащую речь Сударкин стремительно стравливал страховой конец. — А каков был критерий отбора в экспедицию? – обратилась миловидная телеведущая к Ромашкину. И он начал подробно рассказывать о том, что в экспедицию попали только лучшие из лучших. Мне, честно говоря, это льстило. Тем не менее, критерии отбора, о которых говорил Ромашкин, были какие-то ненатуральные. И я подумал, что вот если бы мне пришлось набирать людей в длительную экспедицию, то я бы в нее брал только тех, кто думает одно, а говорит и делает… то же самое. По-моему, это и был бы самый верный способ отбора – соответствие поступков словам и мыслям. Ромашкин «отстрелялся», сообщив корреспондентам, что им вскоре будет предложен «обычный экспедиционный обед». После чего удалился в балок. Видимо, для этого «обычного» обеда Вася и таскал в наш вагончик различные коробки и коробочки. Сообщение Ромашкина явно воодушевило пишуще-снимающую братию на новые творческие подвиги. И они, рассредоточившись, стали приставать теперь к каждому, подвернувшемуся им под руку, персонально. Особенно старался один, немолодой уже корреспондент районной газеты «Саянские зори», бывший ранее ее редактором и выдавший в свет в свою бытность оным не один газетный перл, ставший в журналистских кругах притчей во языцех. Одно время я жил в том самом небольшом городке на берегу Байкала и был знаком с редактором, потому что пописывал время от времени в их газету на экологические темы, тщетно, впрочем, пытаясь убедить людей в том, что технократический так называемый «прогресс» – это тупиковая ветвь эволюции. И что если человечество хочет выжить – оно неизбежно должно вернуться к энергии солнца, ветра, парусу, лошади… Иван же Спиридонович Сирин, руководящий газетой, являющейся тогда еще органом РК (районного комитета) КПСС (коммунистической партии Советского Союза) охотно печатал мои информации и статьи, заполняя тем самым газетное пространство разнообразным материалом. Ухмыляясь при этом себе в усы: «Загибаешь, – дескать, – парень. Ох, загибаешь! Партия – она не дурее тебя и знает куда народ вести и по какой дороге. А технический прогресс – это и есть наш магистральный путь!» Партия, в идеи которой Сирин верил и служил ей поэтому искренне и самозабвенно, закрывала, в свою очередь, глаза на многочисленные и досадные порой опечатки и ляпы, нередко встречающиеся в «Саянских зорях». Мне, например, в этой газете запомнились следующие броские заголовки: «Рубят сук» (Статья, рассказывающая о недостаточном финансировании лесного хозяйства района.) А однажды, раскрыв газету на развороте, я обнаружил на второй странице вверху заголовок о прошедшем только что «Коммунистическом субботнике»: «Праздник в рабочей спецовке», а на третьей странице таким же крупным шрифтом, предваряя День Победы, поскольку газета выходила раз в неделю, и тоже вверху на том же уровне, был напечатан заголовок, относящийся уже к этой дате: «Это радость со слезами на глазах». Получалось, что «Праздник в рабочей спецовке» – «Это радость со слезами на глазах»… На броских заголовках мой знакомец и сгорел, ибо во время путины, когда в Приморье не хватало для этой сезонной работы людей и партия бросила клич: «Все на путину!», он выдал зажигательную статью, касающуюся этой проблемы, о том, как простые люди – коммунисты, сибиряки первыми откликнулись на призыв приморцев и «стройными рядами двинулись к ним на помощь». Озаглавил же он статью как всегда в своем духе – веско и броско: «Всех коммунистов в море!» (натурально получился некий белогвардейский призыв), да еще пропустив в выходных данных газеты, в том же номере, одну букву «с», из-за чего выходило, что «газета является органом РК КПС». На что незамедлительно отреагировали местные остряки, расшифровав эту аббревиатуру как «Районный комитет коммунистической партии Сирии», что было созвучно с фамилией редактора к тому же. Такого конфуза районные партийные власти Сирину простить уже не могли. И он стал в одночасье простым корреспондентом той же газеты. Не утратив при этом ни своей живости, ни веселости, ни веры в «неизбежное светлое будущее всего человечества». Редактором же стал его зам. Флегматичный, полный, довольно молодой еще человек, правда, таковым не выглядевший, в очках с толстенными стеклами, добившийся в жизни всего не своей головой, а своей резиновой задницей. Звали его Евграф Васильевич Докучаев, и был он скучен, как параграф производственной инструкции о технике безопасности. Зато «газета стала намного правильнее» с точки зрения райкома, из-за чего, ясно дело, резко сократилось число добровольных подписчиков. Ибо не было там уже веселых каламбуров товарища Сирина. Таких, например, как: «Не успела со сцены сойти доярка, как на нее залез животновод» (статья о совещании передовиков сельскохозяйственного производства), или «На старт стометровой дистанции вышли девушки промышленных предприятий района… Первыми финишировали женщины из объединения «Светлогорсктяжмаш». Как за полтора десятка секунд стометровки, ведь не марафонскую же дистанцию они бежали (да и на марафонской достаточно трудно), девушки умудрились стать женщинами, оставалось загадкой, наверное, и для самого автора. Но «И. Сирин» подобных ляпов, казалось, не замечал, видимо, поставив перед собой задачу от полноты душевной веселить провинциальный люд по мере сил своих и возможностей. Новый же редактор моих статей уже не принимал, руководствуясь железным принципом: «Как бы чего не вышло», а статьи И. Сирина нещадно «кастрировал», называя это правкой. От такого надругательства над своим творчеством Иван Спиридонович стал частенько и не в меру пить, иногда не являясь на работу вообще, добывая потом справки о всевозможных «болезнях», вдруг обнаружившихся у него. Тогда вновь испеченный редактор издал приказ № 1: «Болеть запрещается!» А если таковое все-таки случается, то болеть можно лишь в нерабочее время. Впоследствии газета вообще превратилась почти в стенографический отчет: «О работе Рай-Кома Кы-Пы-эС-эС», чем окончательно изолировалась от и без того немногочисленных терпеливых читателей. И если бы у части населения – «сознательных коммунистов» подписка на нее не была, по рекомендации РК, «добровольно-принудительной», то и вообще бы, наверное, закрылась по причине полного отсутствия подписчиков, кроме самого секретаря райкома, которому, впрочем, газету доставляли бесплатно, как первому в районе «слуге народа». Так постепенно печатный орган Рай-кома превратился в некий неудобоваримый ком однобокой информации, сообщающий населению с завидным постоянством о том, что скоро из-за таких-то решений партии всем трудящимся жить станет очень хорошо и здорово! То есть практически наступит рай по имени коммунизм. На что местные остряки тут же отреагировали фразой: «Рай комом». А тут и сам Евграф Васильевич занемог – от постоянной надсады в борьбе за увеличение тиража и от недоброкачественности жизни, совершенно запутавшись в конце концов, кому же надо угождать и в какой очередности: читателям или власть предержащим, которые журили его постоянно за снизившийся до критической отметки тираж, – и… умер, не приходя в сознание (правда, в нерабочее время) от одышки и противоречивости своих целеустремлений. Так и стал Иван Спиридонович опять редактором, но уже переименованной газеты «Славное море», поскольку в районе теперь правили не коммунисты, а демократы. То есть, в большинстве своем, бывшие коммунисты, просто называющие себя ныне по-иному. Одним словом, хрен оказался редьки не слаще. Правда, и этой нынешней хреновой власти Иван Спиридонович из-за своей ностальгии по редечному прошлому тоже не угодил и его вновь скатили вниз, до корреспондента. По причине нашего, хоть и весьма поверхностного, знакомства Сирин и подошел ко мне. И мы с ним отправились в водолазку, где было более уединенно, побеседовать. Там он достал не блокнот, как это бывало раньше, а японский диктофон, приготовившись записывать мои ответы на его вопросы. В водолазке было тепло, и Иван Спиридонович снял свое добротное драповое пальто с каракулевым воротником «времен Великого застоя», как выразился он, оценивая не такое уж и далекое прошлое нашей страны. Держался он по-прежнему молодцом, хотя было видно, что шапочный мой знакомец в непрерывной борьбе с действительностью за свое более-менее сносное существование потерпел сокрушительное поражение, так и не поняв, впрочем, где правые, где левые, где центристы, где уклонисты и прочая политическая шваль и сволочь, решив наконец-то для себя кардинальный вопрос, который приходится решать каждому человеку. Теперь он твердо знал, что слушаться надо лишь своей совести и писать о событиях, свидетелем которых он является, честно и бесстрастно, как Бог на душу положит. Вид у Ивана Спиридоновича (да и костюмчик тоже) был устало-потрепанно-невзрачный, хотя он все время суетился, покряхтывал, улыбался, прикрывая при этом ладонью остатки зубов, которые, как он говорил, «съел на работе». Пергаментно-желтоватого цвета кожа лица была покрыта сеткой мелких морщинок, вычерчивающих некую паутину, улавливающую бег безжалостного времени. А некогда уверенный веселый взгляд стал неопределенным, словно он постоянно заискивал то ли перед собеседником, то ли перед нынешним временем, то ли перед самим собой прежним. Некогда вьющиеся, густые темные волосы сильно поредели и сделались теперь сероватого цвета. Фигура в целом была составлена будто бы из арматурных стыков, особенно в районе плеч, локтей, колен. И, тем не менее, при такой худобе, когда одежда повсюду выпирала углами, в том числе и в области таза, круглое брюшко висело поверх брючного ремня вялым шаром. А вот спокойная задумчивость, вдруг возникающая то и дело, была как бы не здешней, не свойственной ему. В приятном тепле водолазки я разомлел и разоткровенничался, тем более, что вопросов Иван Спиридонович почти не задавал. А, подперев голову рукой, задумчиво сидел и смотрел то на неяркие всполохи огня, пляшущие в высверленных отверстиях печной дверцы, то – на равномерно крутящуюся кассету диктофона, то – в окно, на суетящихся за ним фотокорреспондентов и телевизионщиков, снимавших «натуру» (быт ледового лагеря), то просто улыбался неизвестно чему. Одним словом, был совсем не похож на того знакомого мне человека примерно пятилетней давности. Проговорив, наверное, полчаса подобно токующему глухарю, который ничего вокруг себя не видит и не слышит, я устыдился собственной откровенности и уже представил, как все это пошло будет выглядеть в статье. Поскольку честно попытался рассказать о своих чувствах и переживаниях. О том, как я хотел попасть в экспедицию и получил все-таки эту командировку… на дно каньона. О том неуловимом, а только едва угадываемом неясном чувстве, что вот, что-то очень хорошее проходит и уходит из жизни твоей и твоих друзей навсегда. И так, как есть сегодня, уже никогда не будет после… Одним словом, я старался проникнуть в столь хрупкую материю человеческих отношений, для которой вряд ли годится язык газетных строк. Ведь газета – это бабочка-однодневка с сиюминутными новостями. Я же пытался говорить о сокровенном, о непреходящем… О чем можно рассказать в купе поезда дальнего следования под мерный стукоток колес случайному и недолгому попутчику, которого никогда больше не увидишь, и о чем почему-то никогда не решаешься поведать человеку близкому. Иван Спиридонович выключил диктофон. Поблагодарил меня за интервью. И пообещал прислать газету со статьей. И действительно прислал через недельку с биостанцевской почтой. Статья называлась «Взгляни на лед с обратной стороны…» и в ней говорилось в том числе и о том, как он выглядит оттуда, снизу, из-под воды и о том, что на этот лед, с обратной стороны, уже никто никогда не взглянет, потому что его просто не будет. Ибо в жизни все неповторимо и – в единственном числе. Будет другой лед, другие люди, другие годы, другие экспедиции… И, тем не менее, то, что случилось со всеми нами за время этой экспедиции, никогда никуда не исчезнет… И хотя последние строки статьи были, пожалуй, слишком патетичны, статья в целом получилась хорошей – простой и добротной. И как-то с трудом верилось, что написал ее все тот же И. Сирин. Но еще меньше верилось в то, что я такое и так умно мог ему наговорить.
Резинков внезапно вынырнул в наружную майну. Вокруг него засуетились фотокоры и телевизионщики, ожидавшие его появления. Он что-то отдал Сударкину и вновь исчез под водой. (Как выяснилось уже позднее, для того, чтобы пройти декомпрессию.) Через какое-то время он появился в наружной майне вновь. Вода игривыми струйками стекала по его гидрокостюму. Он улыбался, сняв маску и щурясь от солнца. И в эту минуту был действительно очень хорош! А вечером мы узнали, что он достиг 96-метровой глубины, побывав на краю каньона и достав оттуда Светлане два круглых гладких цветных камешка. В газеты об этом рекордном погружении не просочилось ни строки. Может быть, потому, что Резинков не рассказал репортерам об этом? А может быть, они пропустили это сообщение мимо ушей, как впрочем и всегда, когда им сообщают о чем-то значительном. К тому же они спешили на «простой экспедиционный обед», подобного которому мы за все время экспедиции, пожалуй, ни разу не едали.
* * * Через неделю после «репортерского нашествия» мы перетащили наш жилой вагончик и «электростанцию» на берег, в падь Жилище, а водолазный, загруженный всякой всячиной, оттранспортировали в Листвянку. Жилой вагончик и электростанция останутся на берегу до летней экспедиции. Еще несколько дней мы жили на берегу и ходили погружаться к наружной майне, «водолазная» же постепенно заросла льдом. А у берега уже стали появляться проталины. Весна неумолимо наступала. И это совсем не радовало меня. Да и у всех настроение было какое-то странное. Словно мы вдруг стали делать не свое дело и от этого как-то отдалились друг от друга. У меня же и вообще было такое ощущение, что все здесь встретились словно случайно, как на каком-то бестолковом неряшливом полустанке, на несколько часов, где нет и не может быть привычного ритма, а значит, и нормальной жизни. Спали теперь вволю. Дежурные не назначались. И обеды и ужины готовились лишь эпизодически. А так, каждый чего-нибудь перехватывал на ходу, в перерывах между своими работами. Одним словом, все делалось лишь по инерции. Похоже, в глубине души все только того и ждали, когда же за нами наконец придут машины. Странным образом шутки и смех прекратились, как будто мы были в чем-то виноваты друг перед другом и чувствовали это.
Было время утреннего кофе (пожалуй, единственная еще сохранившаяся традиция), когда кто-то первым услышал в тишине нашего завтрака шум моторов. Выскочив из вагончика на лед, мы увидели, как две грузовые машины быстро движутся в нашу сторону. Они остановились метрах в двадцати от берега, к которому уже нельзя было подъехать. Шофера отказались от кофе и заговорили наперебой. — Мужики! Скорее загружайтесь. Лед неважнецкий. Надо до обеда проскочить назад. Меньше чем за час мы закидали как попало все оставшееся в кузова машин. Закрыли вагончики. И тронулись в обратный путь. Казалось, что лед, уже не прозрачный, а матово-блеклый, слегка прогибается, пружиня при этом под колесами грузовиков. Но страшно, почему-то, совсем не было. Вылетающие из-под колес во все стороны светлые брызги, сверкающие всеми цветами радуги в ярких солнечных лучах, радовали глаз. И хорошо было лежать в кузове на матрасе, укрывшись полушубком, и с элегической грустью думать о том, что вот какой-то период твоей жизни уже закончился. Но что-то еще будет обязательно впереди. И может быть, даже еще лучшее… Почти перед самой Листвянкой машины вдруг остановились и я увидел как шофер первой в резиновых сапогах вышел на мокрый лед навстречу какому-то лихому водителю легковушки, которая, судя по направлению, намеревалась пробиться в Коты. — Как лед? – спросил высокий голубоглазый незнакомец нашего шофера, который доставал ему лишь до подбородка. — Хреновый. До Котов может и проскочите, а назад, если сегодня же возвращаться надумаете, машину придется по береговой тропинке на руках нести, – хихикнул он, неожиданно обрадовавшись своей «остроумной» полушутке. — Поутру еще несколько дней можно будет туда-сюда ездить, – добавил водитель уже нашей машины, подошедший к ним. И тут я увидел Ольгу. Она «выплыла» из машины в открывшуюся дверь и так же плавно, словно земное притяжение почти не действовало на нее, «паря», зашагала к кучке людей. И наши небритые, в экспедиционной робе «орлы», высыпавшие на лед, с веселым гомоном со всех сторон обступили это нездешнее, выпадающее из реальной ситуации создание. А она, отшучиваясь и улыбаясь им, приподнимается на носках, выискивая кого-то поверх их голов. Я выбираюсь из кузова на лед и подхожу к весело галдящей компании. — Привет, – говорит мне Ольга, протягивая теплую руку без варежки. — Привет, – отвечаю я, стесняясь протянуть ей в ответ свою огрубевшую шершавую ладонь. И вдруг замечаю, что мы стоим уже одни, как на ярко освещенной сцене. — Ну, что, все кончилось? – спрашивает она. — Похоже, что так, – отвечаю я. Совсем, впрочем, не веря в это. — А я хотела к вам в Коты с отцом проскочить. Воскресным обедом вас угостить и достать заодно кое-что из проб. — А сегодня что, воскресенье? — Да. — Ну, еще накормишь… В другое время и в другом месте. В другое воскресенье… Все три машины одновременно засигналили на разные лады и мы с Ольгой побежали каждый к своей. В разные стороны. Грузовики покатили, миновав черную «Волгу», которая, как только мы проехали мимо нее, тоже тронулась с места. Сначала – в противоположном направлении, а затем, образуя плавную дугу, стала разворачиваться. И на берег уже выехала вместе с нами. «Все нормально, малыш!» – сказал я самому себе, не зная даже, к чему, собственно говоря, это относится… Иркутск, 1997–2000 гг. |










