
Неподалеку раздался хриплый, с привыванием, лай. Старик глянул в ту сторону и увидел женщину, которая так быи прошла мимо прогулочным шагом, да собака неизвестной породы покусилась на белку. Длинный поводок вытягивалсяв струну, дергал ее то влево, то вправо. Короткошерстый белого окраса пес то совался...

Виктор Антонович Родя, ветеран комсомола и БАМа рассказал, что для него значит время комсомола. Оказывается, оно было самым запоминающимся в жизни!

Разговор о Лаврентии Берии, родившемся 125 лет назад, в марте 1899-го, выходит за рамки прошедшего юбилея.

Казалось бы, что нам Америка. Мало ли кого и куда там избирают, у нас тут свои проблемы, по большинству житейские. Так, да не совсем. Через несколько ступенек, но исход заокеанских выборов заметно аукнется и в России. Хотя бы в отношении всего, что связано с Украиной. А это, между прочим, тот или иной...
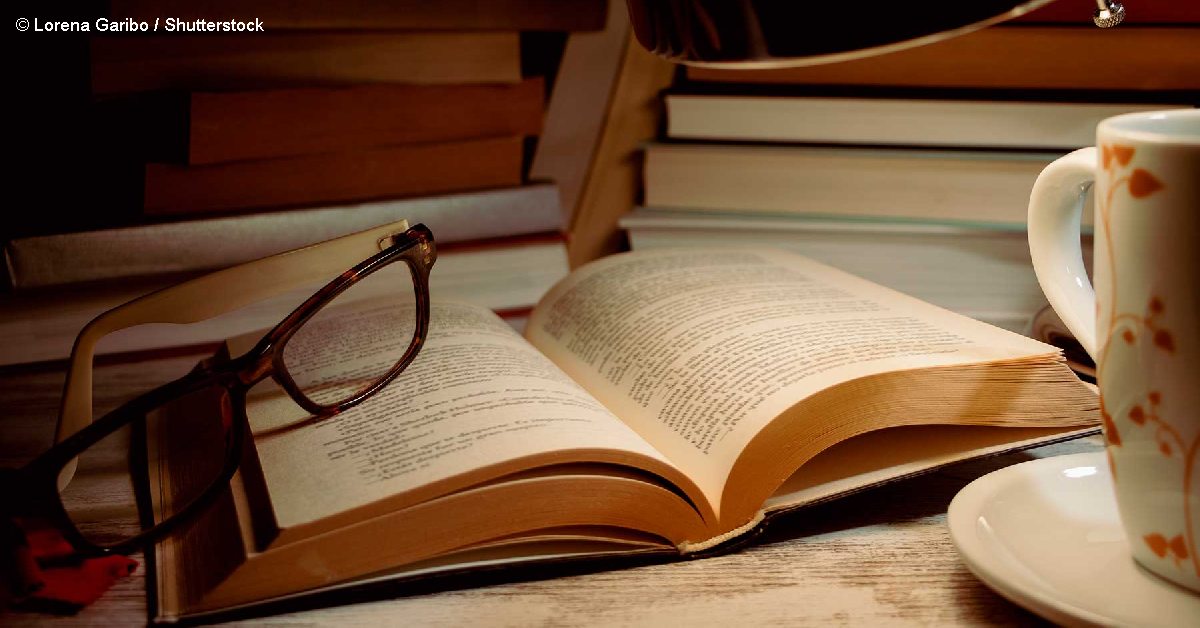
«Зеленый трамвай». Остановка вторая
«Я играю своим и чужим стыдом» |
| 21 Марта 2016 г. |
|
Писатель Денис Драгунский — автор порядка 1 000 рассказов, опубликованных в почти двух десятках сборников, сын классика отечественной литературы Виктора Драгунского. Почему мы часто любим не тех, кто нас любит, а совсем наоборот? Какие ошибки мы совершаем в молодости и кто в них виноват? Всеми этими вопросами прозаик задается в своей новой, во многом автобиографической книге «Мальчик, дяденька и я», которая вышла недавно в «Редакции Елены Шубиной». Автор не только анализирует свои юношеские поступки, но и рассказывает о реальных людях, многие из которых хорошо известны. Обозреватель «Ленты.ру» Наталья Кочеткова встретилась с Денисом Драгунским. «Лента.ру»: Рассказываю одному юному коллеге, что иду на встречу с Денисом Драгунским. «О! — говорит юный коллега в восторге от счастливой догадки. — Я его знаю, он "Денискины рассказы" написал!» Я знаю, что с одной стороны, вы безумно любили отца. С другой, бесконечное сопоставление с литературным персонажем вас не радовало. Но этой темы в книге почти нет. Почему вы ее обошли? Денис Драгунский: «Мальчик, дяденька и я» немного не про то. Я хочу когда-нибудь написать книгу, которая бы называлась «Подлинная история Дениса Кораблева», в которой все было бы рассказано последовательно как раз об этом, с раннего детства до смерти отца. А еще недавно я понял, что в этом моем опыте двойной жизни (человека и персонажа) нет ничего страшного. Это то, что будет со мной всегда, и после моей смерти тоже. И мне это даже нравится в каком-то смысле. Забавно, когда тебя путают с литературным героем. Хотя я знаю, что, скажем, Кристофер Робин не пережил этой конкуренции. Он ненавидел отца, как-то ужасно выступил на его похоронах: что-то прошептал на ухо матери, и она влепила ему пощечину, потом у нее случилась истерика. Правда, его дразнили Винни-Пухом в колледжах, где он учился, подсовывали плюшевого медвежонка. Под конец жизни он превратился в старого закомплексованного человека. У одного английского профессора в 1980-х годах — еще был жив Кристофер Робин — была такая затея. Он хотел встретиться с тремя литературными персонажами: Кристофером Робином, вашим покорным слугой и контр-адмиралом Тимуром Аркадьевичем Гайдаром. Но ничего не вышло, потому что Милн-младший отказался наотрез. Но, как ни странно, быть описанным в художественном произведении — это не только не уникальный опыт, как мы видим, но еще и любопытный. Скажем, когда я был маленьким, мне было 10, 11, 15 лет, никто на мою связь с литературным персонажем не обращал внимания. Это произошло, когда девочки, читавшие «Денискины рассказы», стали мамами. То есть с шагом в поколение. Помню, мы гуляли ночами в Москве по бульварам, и какой-нибудь мой приятель говорил: «Девушка, девушка, а хотите я вас с интересным человеком познакомлю? А это Денис Викторович Драгунский, он паспорт может показать. Читали "Денискины рассказы"?» Если они читали и говорили: «Ой! Правда? Как интересно!» — мне было обидно. Выходит, что кого-то любят за красоту, доброту, талант, а я интересен только потому, что я Дениска из рассказов. А если девушка говорила: «Что? Дениска? Какой Дениска? Не знаю — не читала». И мне становилось еще обиднее. (Смеется.) И потом исходя из этого опыта я понял, что обижаться не надо ни на первое, ни на второе.
Виктор Драгунский с Денисом
Я много об этом думал, переживал. Были сложные ситуации. Потому что, например, из-за огромной любви к отцу и его произведениям я написал плохие сценарии «Денискиных рассказов». Я совершенно искренне считал, что моя главная задача — сохранить авторский текст. И совершенно не задумывался, что авторский текст может быть сохранен только при условии, что режиссером будет Алексей Юрьевич Герман, который построит аутентичную Москву со старыми троллейбусами, автоматами с газировкой, класс со старыми партами и нарядит Раису Ивановну в старое платье. И будет снимать этот фильм 14 лет. (Смеется.) А если фильм снимают про современность, все живут в отдельных квартирах, никакой коммуналки, никакого старого двора и при этом я вцепился в текст, как Дюк Веллингтон в деревню Ватерлоо и ни шагу назад, то получится киноиллюстрация. Так оно и вышло. Но эти фильмы до сих пор пересматривают. Даже старый фильм Вениамина Дормана 1962 года. Не мытьем — так катаньем. Я никогда не хотел становиться писателем и не хотел подражать отцу. Но вышло, что именно он после своей смерти втянул меня в занятия литературой. Но вы все же писали и раньше. Пьесы, скажем... Они были так себе, и ставили их неохотно. Сценарии были просто заработком. Я чувствовал, что мне чего-то не хватает, что не могу перейти определенный порог в себе. Было много внутренней цензуры — все пьесы были достаточно приличные, они не выглядели как тексты, написанные тридцатилетним, скорее как унылым 50-летним членом Союза писателей. И даже когда я позволял себе какие-то вольности с точки зрения морали или политики, они все равно были такие очень аккуратные, упакованные. Кроме, пожалуй, одной пьесы. Я потом все свои пьесы и сценарии общим количеством три десятка собрал и выбросил на помойку. Хотя там где-то 100 прилично написанных страниц можно было найти. И как вы себя после этого почувствовали? Стало легче. А потом? А потом стал писать. Из меня вдруг мой опыт жизненный попер. Такой анекдотический опыт, скорее. Опыт застольного рассказчика, специалиста короткой байки, чтобы все удивились и похохотали, преобразовался в эти короткие рассказы. Что должно было произойти, чтобы у вас не просто появилось желание записать эти байки, но и объединить их в сборник (с 2009 года ваши книги стали выходить одна за другой)? Должен был быть изобретен Живой Журнал. В этом смысле я человек совершенно интернетный, невероятно ему благодарный. Я в советское время написал два рассказа. Их опубликовали в журнале «Октябрь». И не получил никакого отклика ни от одного человека. У меня было ощущение, что я пишу в пустоту. А стоило мне в интернете опубликовать первый рассказ, как мне сразу стали писать: «Чушь», «Отлично», «Ерунда», «Аффтар пеши исчо», «А кого вы имеете в виду?». Получаешь фидбэк, как говорят в народе. Для меня тогда это было важно. Хотя я много выступал в прессе и по телевидению как публицист. Но это немного другое. Потому что там ты — не ты, а эксперт по определенной теме. Любые мемуары — способ разобраться с окружающим миром. «Мальчик, дяденька и я» — скорее попытка проанализировать собственный внутренний мир. Не самая типичная история. Я убежден, что все книги, посвященные разборкам с внешним, за очень редким исключением на самом деле написаны для того, чтобы разобраться с собой. Все конфликты, которые у человека происходят вовне, — это всего лишь овнешнение или, как говорят у нас на Смоленщине, экстернализация внутренних конфликтов. А не наоборот. Поэтому когда человек рассказывает в мемуарах, как ему кто-то нахамил, как кто-то изменил жене или мужу, на самом деле это он работает с внутренними объектами, которые не дают ему покоя. Поэтому многие разоблачительные мемуары не выдерживают критики. Допустим, трое разных авторов написали об одном и том же человеке или супружеской паре. И в результате у всех получается разное — потому что каждый в конечном счете написал о своем. А вовсе они не Шерлоки Холмсы, которым и правда интересно, чья это пуговка. И я решил не чесать левое ухо через правое плечо, а напрямую разбираться с собой. Обычно желание понять себя — признак некоторого кризисного состояния, преодоление очередного жизненного этапа. Кризисов у людей много. Эриксон насчитал, кажется, семь. Но и правда, в результате написания этой книги я пришел к некоему важному даже не выводу, а скорее ступени зрелости. Каждому человеку нужно осознать свою самостоятельность / зависимость / смертность / сексуальность — у человека есть много таких пунктов, через которые он должен пройти. Эта книжка — осознание собственной обычности. Обыкновенности. Банальности. Я — такой же, как все.
Дениска (слева) и Мишка (справа)
Нет, конечно, у меня есть мой уникальный жизненный путь, усы, лысина, образование, цвет глаз, форма тела. Но столь же уникальных людей на земле семь миллиардов. Следовательно, мы все банальны. И этот путь был для меня очень важен. И любое действие, которые мои близкие совершают со мной, — это рядовая сделка на ярмарке жизни. Самое ужасное, что меня мучило на протяжении всей жизни, — что меня предавали и мне недодавали. Написанием этой книжки я пытался изжить это чувство. И пришел к понимаю того, что это не так. Что никто меня не предавал — просто женщина переставала любить меня и влюблялась в другого. Она не была обязана меня любить. Сам я, когда бросал девушек, ни о каком своем предательстве не думал, а говорил, как мартовский кот: «А Маруська мне больше нравится». То есть не требовал от себя вечной верности, которую требовал от женщины. И если мою пьесу не поставили — значит, ее правильно не поставили. Значит, она была плохая. Как-то так. То есть теперь вы спокойны и счастливы? Я вообще всегда счастлив. Как Чебурашка, помноженный на крокодила Гену, — мне всегда неплохо. Хотя были отдельные ужасные случаи — я про них тоже в книге пишу. Но знаете, до конца проанализированный человек — это человек добела выполосканный. Такой робот или что-то пластмассовое. Он полностью понимает свои конфликты и комплексы, адекватен окружающему миру. И все его чувства ему ясны, понятны и отрефлексированы. Мне это кажется тоже своего рода инвалидностью. Он такой — с вырезанным нутром. Так что я не могу сказать, что этой книжкой довел себя до состояния полной нирваны. Просто что-то важное про себя понял. На самом деле я же все книжки пишу про себя. Я этого особо не скрываю. Во-первых, многие мои рассказы написаны от первого лица. Или когда я пишу «один мой приятель рассказывал» или «один мой знакомый говорил» — не нужно большого литературоведческого ума, чтобы понять, кто этот человек. (Смеется.)
Денис Драгунский
И все же зачем вам нужно было сейчас возвращаться во времена молодости? Это было несколько десятилетий назад. На теперешнюю жизнь поступки того времени уже не очень влияют. Мы живем в зеркалах чужих взглядов. Иногда мне кажется, что все идеи про самость человека — это выдумки. Что человек — это сумма взглядов на него, сумма отражений. И в том здании, которое я собой представляю, есть очень гладкие красивые верхние этажи и лакуны, пустые кирпичи ближе к фундаменту. Их нужно заполнить. Пройдена большая часть жизни, ничего про себя не понято. Надо делать новые жизненные акты, которые гораздо серьезнее, чем защита диссертации или что-то в этом духе. Каждая новая книга — это новый большой поступок, который включает всего меня. Поэтому нужно хорошо в себе разобраться. А не страшно пересекать границу того мира и этого, прошлого и настоящего, возвращаться к себе 50-летней давности? Страшно, конечно! Но сказки мы любим как раз за то, что они страшные. Я ведь люблю экспериментировать не с текстами, а с чувствами. Играю не словами, а людьми, простите, пожалуйста. Судьбами, ситуациями, стыдом. Своим стыдом, своих героев. Что является естественной проекцией моих собственных стыдов, ужасов, покраснений кожных покровов, если можно так выразиться, что кто-то увидит, чего я хочу на самом деле, что сделал что-то некрасивое. Вот это мне интересно. Часто, когда я пишу рассказ, мне хочется освободиться от какого-то стыдного переживания. Я смотрю на мир, как он преломляется в моем восприятии. Меня интересует, во-первых, любовь, во-вторых, любовь, и она же — в-третьих. Ничего, кроме трех этих вещей, в жизни маленьких и взрослых людей больше нет. А не будучи ни социологом, ни сексопатологом, я могу апеллировать только к собственному опыту. Источник:
|














