
Владимир Набоков родился в Петербурге 22 апреля (10 апреля по старому стилю) 1899 года, однако отмечал свой день рождения 23-го числа. Такая путаница произошла из-за расхождения между датами старого и нового стиля – в начале XX века разница была не 12, а 13...

«Эта песня хороша – начинай сначала!» – пожалуй, это и о теме 1990-х годов: набившей оскомину, однако так и не раскрытой до конца.

Президент Владимир Путин сказал, что «в СССР выпускали одни галоши». Такое высказывание задело многих: не одними галошами был богат Советский союз, чего стоила бытовая...
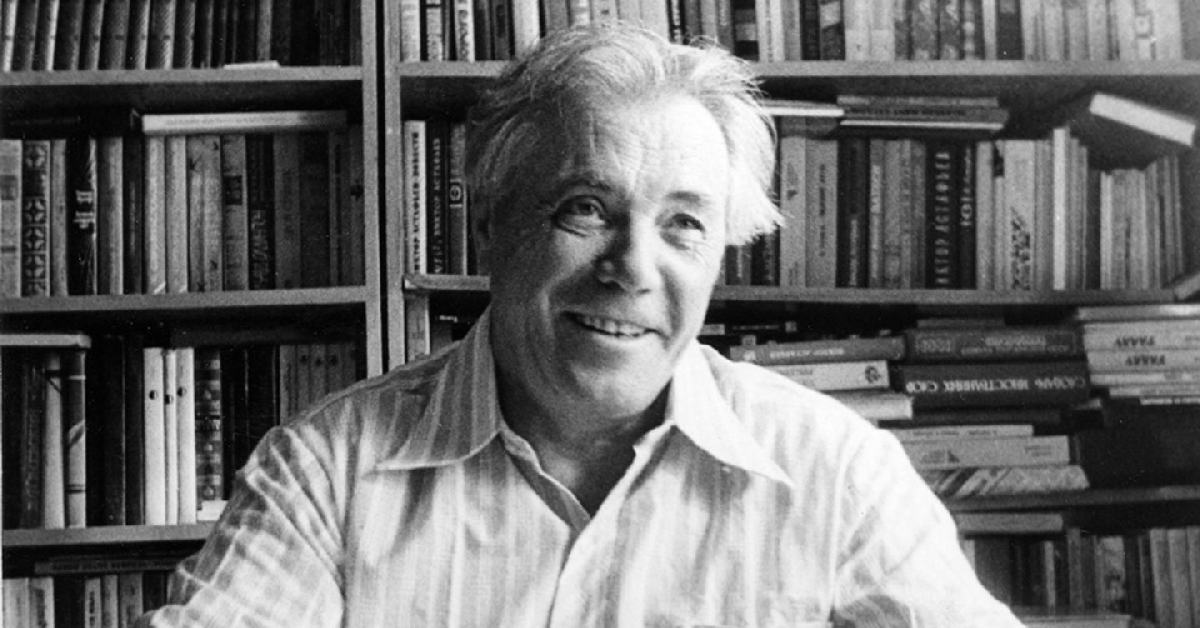
1 мая исполнится 100 лет со дня рождения Виктора Астафьева

Зоя Богуславская – знаменитая российская писательница, эссеист, искусствовед и литературный критик, автор многочисленных российских и зарубежных культурных проектов, заслуженный работник культуры...
Нет расстояний для памяти |
|
Десять лет назад ушёл из жизни поэт Анатолий Кобенков. Иркутск от Иерусалима далеко – нас разделяет более восьми тысяч километров. Но что нынче значат эти тысячи километров? Пустяк, одно нажатие кнопки, и тебя уже слышат, видят и читают на другом конце планеты. Тем более, если на конечных точках этого расстояния есть друзья.
Эти люди – прежде всего израильский поэт, журналист, переводчик Леонид Школьник и иркутский прозаик Виталий Диксон. Эти люди навсегда связаны дружбой с Толей. Для Леонида это была мальчишеская дружба на улочках, лавочках и крышах Биробиджана, для Виталия – долгие годы, в которых было многое: задушевные разговоры о литературе, о жизни и смерти, и прогулки по деревянным улицам старого Иркутска, и добрая чарка. Из всего этого два Толиных друга сложили книгу под названием «Презумпция наивности», которая содержит стихи поэта, его короткие эссе – о коллегах по писательскому цеху, о странностях жизни, о забавном и грустном. «Страницы памяти» содержат воспоминания его иркутских друзей – Сергея Захаряна, Алексея Комарова, Светланы Михеевой и автора этих слов. Предисловие Леонида Школьника и послесловие Виталия Диксона – суть тоже страницы памяти, разве что в другой тональности. 5 сентября, в день десятилетия ухода поэта из жизни, в Иркутске была представлена электронная версия этой книги. Бумажной не будет – по воле наследниц Толи. Но она вышла в семи (!) сигнальных экземплярах и тут же превратилась в раритет. Подробно об этом – на сайте журнала «Мы здесь». В дождливый сентябрьский день друзья и почитатели поэзии Анатолия Кобенкова сошлись тесным кружком в уютных стенах Музея истории Иркутска. Авторы воспоминаний смогли поделиться своими мыслями и чувствами, которые роднили в этот день нас всех. Участники и герои эссе Толи художник Сергей Григорьев и журналист Александр Сёмкин добавили в печаль поминального вечера ноту иронии и улыбки, которые были свойственны мироощущению Толи. Все вместе мы получили возможность всмотреться в страницы этой книги со странной судьбой. Что делать, в судьбе большого поэта странностей, в том числе и неприятных, ранящих, хватало при жизни. Видимо, продолжатся они и по ту её сторону. Что ж, друзья Анатолия готовы принять и это. Нам остаётся одно: продолжать дружить ради памяти, какие бы тысячи километров нас ни разделяли.
Ведущие вечера: Светлана Михеева, Виталий Диксон, Арнольд Харитонов *** Автоэпитафия Ничего не остаётся – Никуда уже не деться – Хорошо бы к ней пробиться Русаку и иудею,
Осень Григорию Кружкову Пора, мой друг, – вдоль буковок затёртых, Пора туда, где и без нас, и с нами Где токарь точит, а кухарка парит, Родине Лист легко и торжественно
Друзья поэта на поминальном вечере (справа: Сергей Захарян, Александр Сёмкин и Сергей Григорьев) *** Анатолий Кобенков «Умереть не страшно...» Сначала: девушек более стихов, потом – наоборот... То же самое и с ролями: поначалу сотни почитательниц, а чуть погодя – уже ролей... То же самое и с мёртвыми: до двадцати – всё на сердце, после тридцати – всё в памяти, а уж после сорока, а тем более после пятидесяти – не то чтобы сердца или души не хватает, однако – начнёшь считать оставивших тебя, и всё, со счёта сбиваешься. Когда ушли – друг за дружкой – Петр Иванович Реутский и Александр Зиновьевич Берман, я был в Москве, отчего ни с тем, ни с другим не простился – ни поклоном, ни гвоздичкой, ни живым вздохом, ни даже, увы, спасительным словом... Вкруг первого, Петра Ивановича, мы, начинавшие под конец шестидесятых, кружились неразумными мотыльками: он был открыт, свободен, талантлив, причём не только в стихе, но и в постоянном живом общении. Разумеется, что и я, и мои соученики по возрасту и сочинительству были рады лишний раз распахнуться его стихам, сбегать для него за очередной бутылкой, выслушать его хмельной мемуар. Он считался «иркутским Есениным» – на это работало и время, впервые после долгого запрета перечитывавшее великого путаника (принимавшего за чужую жену берёзку, а московский кабак – за единственное спасение от «железных коней»), и, конечно, его ближайшее окружение, сложенное из молодых да горячих: Вампилова, Распутина, Скопа, Шугаева, Машкина, дюжины геологов, полудюжины лётчиков, нескольких дюжин горьких, но ярко разноцветных своими судьбами пропойц... Сегодня я более, нежели прежде, понимаю, что Петр Реутский, желая или не желая того, выступал как антипод Марка Сергеева. В отличие от обязательного Марка, Пётр был непредсказуем, демонстративно неустроен и естественно неряшлив, причём не только в выборе собутыльников, но и в письме. И коли Марк писал «Коммунистов», то Пётр писал «Чёрную сотню». С годами – после ничуть не спасительного для него бегства из Иркутска – Пётр Иванович всё более трезвел. Но и – вот парадокс – как бы опаснейшим образом хмелел от этой трезвости и впервые в своей, перевалившей уже за середину, жизни разбегался то на сонет, то на терцины, а то и на роман в стихах: сначала на один, а потом и на другой... С Александром Зиновьевичем случилось чуть иначе: любимец театральной публики середины пятидесятых, долгие годы единственный для Иркутска «первый любовник», он был страстен на сцене и трезв в жизни. Вопреки расхожим правилам, безупречен как семьянин: муж, отец, а потом и дед. С годами на смену его опереточной красивости явилась красота благородная – аристократическая. Я ничуть не переберу с пафосом, коли скажу, что к своей старости Александр Зиновьевич – и обликом, и душой – был совершенен. Конечно, я уверен, что работали на него такого те самые замечательные драматурги, сочинения коих он не столько играл, сколько проживал. Но и Александр Зиновьевич, подобно Петру Ивановичу, не совпал с наступившими временами: упали в цене не только поэтическая открытость или извинительная российская бесшабашность, но и благородство и, само собой, аристократизм. Cмешно сказать, но даже те из наших бывших парт-сов-проф-работников, что явились в нашу новую жизнь переряженными в казаков – и они не догадались оглянуться на истинно казачью музу Реутского, а уж что касаемо тех, что – опять же без причины и следствия – объявили о своей принадлежности к русскому дворянству, то и эти не потрудились догадаться явиться к Берману, дабы обучиться у него подобающим манерам. Между тем я знаю: с Петром Ивановичем нежно простились его читатели, с Александром Зиновьевичем – его почитатели. Знаю, что вдова Петра Ивановича, Галина Алексеевна, читала над ним, уже не живым, его мудрые своей странностью строки: «Умереть не страшно – страшно не родиться...» Знаю я и о том, что с годами читатель Реутского, как и зритель Бермана, напрочь вымрет: стихи Петра Ивановича уместятся в одном небольшом томике, потом (одно-два, от силы – три) займут своё подобающее место в дежурных поэтических антологиях. Ролям же, сыгранным Александром Зиновьевичем, отыщется местечко в абзаце или даже в предложении суховатых и мало кем читаемых работ историков нашего театра... Я дописываю эти строки о дорогих для меня людях – поэте и актёре – после того как простился уже и с Сашей Просекиным, славным прозаиком и хорошим человеком. Мы хоронили его под дождём: все – под зонтами, Саша – тоже; цветы, которыми выстилали Сашин путь в иную жизнь, падали в безразмерную дворовую лужу; по кромке газона, чтобы не замочить ноги, в лад нашей процессии брёл мальчик, припавший к саксофону, и мокрые стены окружавших нас домов многократно отражали неувядающее «Yesterday» давным-давно обрусевших битлов. Я прощался с Сашей, с его написанными и ненаписанными книгами, вспоминал тех, кто ушёл перед ним: Петра Ивановича, Александра Зиновьевича и, чтобы утешить боль, пытался наложить на битловскую мелодию те слова, которые некогда выдохнул главный печальник сего мира мудрец Екклесиаст: «Не время проходит – мы проходим...»; ритмически это было невозможно, но я, как вы понимаете, хватался за соломинку. А соломинка была совсем рядом – у того же Екклесиаста, в третьей части его Книги: И Бог воззовет прошедшее... 1 июля 2004 г. P.S. Познакомиться с книгой "Анатолий Кобенков. Презумпция наивности" можно по ссылке: http://www.newswe.com/index.php?go=Pages&in=view&id=9035. Фото Евгения Меньшагина |













 И дело тут не только и не столько в современных средствах коммуникации. Дело в том, что друзья великого российского поэта Анатолия Кобенкова живут и в Иркутске, и в Иерусалиме, как и во многих других городах мира. И эти друзья озаботились тем, чтобы оставить ещё одну метку, свидетельствующую: жил на земле большой поэт Кобенков, добрый парень, хороший друг Толя Кобенков.
И дело тут не только и не столько в современных средствах коммуникации. Дело в том, что друзья великого российского поэта Анатолия Кобенкова живут и в Иркутске, и в Иерусалиме, как и во многих других городах мира. И эти друзья озаботились тем, чтобы оставить ещё одну метку, свидетельствующую: жил на земле большой поэт Кобенков, добрый парень, хороший друг Толя Кобенков.
