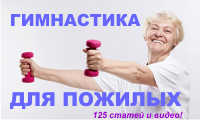16 марта исполнилось 140 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Александра Беляева (1884–1942).

В ушедшем году все мы отметили юбилейную дату: 30-ю годовщину образования государства Российская Федерация. Было создано государство с новым общественно-политическим строем, название которому «капитализм». Что это за...

Раз в четырехлетие в феврале прибавляется 29-е число, а с високосным годом связано множество примет – как правило, запретных, предостерегающих: нельзя, не рекомендуется, лучше перенести на другой...

Продолжаем публикации к Международному дню театра, который отмечался 27 марта с 1961 года.

Юрий Дмитриевич Куклачёв – советский и российский артист цирка, клоун, дрессировщик кошек. Создатель и бессменный художественный руководитель Театра кошек в Москве с 1990 года. Народный артист РСФСР (1986), лауреат премии Ленинского комсомола...
И снова — творчество без границ |
|
В предисловии к предыдущему выпуску упор был сделан на границы между странами, однако есть ведь и другие, не зафиксированные ни в географии, ни в истории. Причём у каждого они свои: кому-то «зарубежен» определённый круг людей; кто-то из разнообразия поэзии выбирает себе, допустим, Пушкина и Тютчева, а всё остальное оставляет за чертой внимания; кто-то отгораживается от общества частоколом одиночества, и хорошо, если это одиночество творческое, сохраняющее связь души с миром... Так что уехавшие в другие страны в общем смысле лишь одни из этих многих.
Откликаясь на обещание опубликовать его стихи, Сергей Скудаев написал в ответ: «Да, я чувствую ностальгию по всем местам, где я когда-либо жил, независимо от того, находятся эти места в России или Америке. А жил я во многих...» Перечисление длинное, но вывод вполне поэтический: «Земля маленькая... И мы люди планеты Земля». Какие уж тут границы! А познакомились мы в Иркутске, в середине 80х, во время литературной встречи на биологическом факультете университета. Стихи Сергея запомнились не только своей основательностью, но и конкретными строчками: «Почему, чтобы жизнь полюбить, нужно к соснам уйти от людей?» – вопрошал он. Воспринятые мной с некоторым недоумением: чем это успели так досадить люди молодому ещё человеку? – строки эти тем не менее запали в душу и в последствии не раз вспоминались. Но вернёмся к границам. Есть ещё одна, главная, общая для всех. Это предел жизненного пути, уходя за который человек оставляет не только след в памяти родных и близких, но и результат своих дел, в частности, творческое наследие. Таким образом словосочетание «творчество без границ» обретает, пожалуй, свой главный смысл. В конце декабря исполняется 15 лет, как ушёл за последнюю черту 42летний Юрий Балков. Его писательский талант был отмечен уже после публикаций первых рассказов: «Однодворец», «Последний шанс» и «Серебряный Сосор», когда автору было 1920 лет. Затем его повести, рассказы и очерки публиковались в журналах «Новая книга России», «Москва», «Собор», «Вече» (Германия), «Сибирские огни», в газетах «Советская культура», «Литературная Россия» и других изданиях. При его жизни, уже в Иркутске, за семь лет вышли книги «Когда на горе начнёт куковать кукушка», «Огнём опалённая воля», «От серпа и молота к золотому тельцу», «С родины на чужбину». В Союз писателей России Юрий Балков был принят в 1999 г. Последнюю повесть, «Проклятье Баальбека», Юрий сам подготовить к изданию не успел, позже она печаталась в нескольких журналах и книгах. Сейчас готова к изданию книга избранных повестей Ю. Балкова, одобренная Издательским советом при Иркутском доме литераторов и запланированная на 2021 г. Остаётся сожалеть, что книгу эту уже не увидит отец Юрия – Ким Николаевич Балков. ***
Сергей Скудаев Сергей Скудаев родился в Забайкалье. Школьные годы и большая часть жизни прошли в Иркутске. Стихи печатались в альманахе «Сибирь», в журналах «День и Ночь» (Красноярск), «Новосибирск». С 1991 года живёт в США. Увидеть глубь реки* * * А правда ли, что я рождён Однажды женщиной земною? И как я оказался мною? За что и кем я награждён? И почему шуршанье трав, И треск костра, и шелест листьев Мне ближе Шуберта и Листа, А крик ночной внушает страх? И можно ли не верить снам, Когда, роняя лоб на руку, Вновь вижу я собаку к другу, К добру, а ягоды к слезам? Я не рождён – я жил всегда! Я помню всё: звериный голод, И жар костра, и камня холод, И гордых мамонтов стада, В ночи раздавленного крик, Дрожь, пробежавшую под кожей, И то, как страхом перекошен Был умирающего лик, Как по косматому лицу, Сверкая, ягоды катились, И слёзы на кустах светились, На травы падая в лесу. * * * Дождит. Безнадёжно безденежный Стираю рубаху под Баха. На ленты магнитофонные Роняю пену с руки. Под окнами мокнет деревце, Как брошенная собака. Скользят по стеклу оконному Змеистые ручейки. На чёрных ветках клёны Развесили жёлтые листья, Бледные, будто застиранные, Жёлтые лоскутки. Ветер ерошит кроны. Прохожие прячут лица, И втягивают поглубже Шеи в воротники. Окончили споры птахи В собрании тополином. Попрятались. Дорог очень Им стал чердачный уют. И только парят рубахи Над комнатой белым клином. Мне грустно. Что если ночью Они улетят на юг? Дождь в НьюйоркеМокнут над землёй тополя. Весь ноябрь саднит на душе. Вижу то Парквэй, то поля, Белые под снегом уже. Прошлогодних трав семена Ветер разбросал на снегу. Слышу чей-то смех, имена, Только лиц узнать не могу! В небо поднимается дым. Хорошо сидеть у огня. «Не узнали?.. Стал я седым.» Но никто не слышит меня. Чуть дрожит сухая трава. Всё исчезло. Стало темно. Тяжела моя голова. Пью один сухое вино. Мокнут за окном тополя. Весь ноябрь саднит на душе. Вижу то Парквэй, то поля, Белые под снегом уже. ФлоридаЯ люблю существовать Под луной, где всё не вечно. И любить тебя беспечно, И ночами целовать. И под солнцем я не прочь В океанах порезвиться. Незнакомок встречных лица Мне вернёт в виденьях ночь. Я люблю на свете жить, Никому не угрожая, Никому не подражая, Говорить и вина пить. Пусть однажды всё пройдёт – Ненавижу повторенья! Я люблю простор паренья, Улетая на восход. * * * Кто знает, сколько нам осталось Смотреть на звёзды и траву. Душа, познавшая усталость, Истает в зыбкую молву... А мы твердим, что счастья нет, Что всё приходит слишком поздно. Как нестерпимо небо звёздно, Как нежен над рекой рассвет! * * * Родниковой воды зачерпну, Будто прошлую жизнь зачеркну. Отопью и над сладкой водой Распрямлюсь молодой, молодой! Потечёт меж ладоней вода. Затокует, засвищет в бору! Я на свете не жил никогда. Никогда, никогда не умру! С долгим криком потянется нить Вдаль зовущих меня лебедей. Почему, чтобы жизнь полюбить, Нужно к соснам уйти от людей? * * * Мне кажется, что я старик. Смакую жизни каждый миг. Смотрю на звёзды, дождь, траву – Последний день живу! Мне летний вечер, как вино. Я жизни смысл постиг давно. Он в том, чтоб волнам вопреки Увидеть глубь реки. Не слушать шёпоты молвы, А слушать шорохи травы, Смотреть на искры от костра И слышать комара. И вдруг, теряясь в звёздной мгле, Забыть о горестной Земле, И веру потерять в рассвет, И в то, что Бога нет. И вновь понять, что нет идей Священнее, чем жизнь людей, Что в звёздной холодно дали, Что нет другой Земли. Что люди слепы, а не злы, Что нет ни славы, ни хулы, Что сам меж ними столько лет Мечусь и слаб, и слеп! Что скоро, у обид в плену, Беду их принял за вину, Что долго на Земле гостил, Но поздно их простил... * * * Себя мне откровенно расскажи, За болью боль тихонько обнажи. Не усмехнусь в ответ, не осужу. Что не сказала, – сердцем доскажу. Уткнись глазами мокрыми в плечо, А после расскажи себя ещё. Устало веки красные смежи. И пусть кривятся губы у ханжи... Пусть! Разве называема любовь? Ведь не любая ты – я не любой! И пусть на миг в ночи свела нас жизнь, В ней ни корысти не было, ни лжи, Ни вымышленной сказки голубой... Мы в ней делились болью и собой. И было, не вмещаемо в слова, То пониманье выше волшебства! А тишина плыла, храня покой. И понимала будто нас с тобой. А мир пылал, и рушились мосты! И спали мы, как ангелы, чисты. * * * Воробей чирикает на ветке. Тополь распустился под окном. Разное случается на свете, Зло не побеждается добром... Мы в себя уходим нелюдимы, С солнышком весёлым не дружны. «И никем на свете не любимы, Никому на свете не нужны...» Но о том никто вокруг не знает! Брызгаются в луже воробьи. Солнышко доверчиво сияет На прохожих – щедрое в любви Посмотрите: день какой хороший! Может, вас хоть тополь убедит, На себя сегодня не похожий, А добро, конечно, победит! * * * Речка чистая, как глаза Рассмеявшегося ребёнка. Леса брошенная гребёнка, Трав нетронутая роса! Воздух – тёплое молоко! Пень – застывший лукавый леший. Всюду взгляд любопытный лесий Ловишь ты на себе легко. И несёшь на своих плечах Это, с тёплым туманом, утро, Шелестящий о чём-то мудро Лес, в расчёсанных им лучах! ***
Юрий Балков Кто продолжит родовое дело? (Отрывок из повести «Улигеры одного года»)...Вчера Боорчи закончил чеканку, которую начал делать ещё в юности, но что-то не устраивало. Быть может, рисунок получился расплывчатым и неясным, а может, разноцветные вставки затенили чеканку. О многом хотелось сказать дархану*, и вроде бы удалось это сделать, всё же казалось, что-то не довёл до конца, люди вряд ли поймут его. Чеканка получилась объёмной. Она состояла из нескольких частей. В верхнем углу ханские нукеры в железных панцирях скакали по знойной бурятской степи, оставляя за собой длинные столбы дыма и мёртвые юрты. На голубом потнике неба горели алые пятна, никли к земле высокие травы. Чёрная тень орды легла на кочевья харанутов. Могуча поступь железной орды. Бесстрашны нукеры Тушету-хана. Зорко всматривались они в голубую даль степи. Казалось, ничто не сможет остановить их движения, но уже готовились к защите родной земли луноликие баторы. И был бой!.. Сорок дней и ночей бились вместе с русскими казаками воины бурятских кочевий против чёрной напасти и победили. Боорчи смотрел на чеканку, а вспоминал старые работы, которые разошлись по горным и степным улусам, но не было в душе желанного удовлетворения. Он ещё не всё сказал людям, искусный чекан деда остался непревзойдённым. Кто же продолжит его дело, кому передаст то, что умеет?.. В последнюю встречу улигершин**, помнится, сказал, что люди – песчинки в этой жизни, только одни не поддаются ветру перемен и упрямо держатся за родные места, другие улетают. Обидно, горько, и не за себя, за тех, кто учил людей уважать отчую землю, водил по дорогим сердцу харанута местам. Разве они не поднимались на вершину Улзыты-Хана, где даже камни пропитаны духом предков, не дышали воздухом скорби по утраченной красоте на развалинах дацана?.. Разговор с улигершином встревожил Боорчи. Постарался найти успокоение на развалинах дацана, но вместо этого расстроился ещё больше. Казалось, даже безмолвные, обросшие мхом камни смотрят с укором. Дархан понимал, рано или поздно ему придётся держать ответ перед предками. Но мысль о смерти пугала. У него нет наследника, и, если бы он умер, родовое дело ушло бы вместе с ним в могилу. Дархан не понимал молодых людей, их разговора, мыслей, они не понимали его. Тем удивительнее было появление в улусе Изота, совсем непохожего на них. Разговор с Изотом вселил надежду, но он постарался позабыть об этом. Дархан чувствовал, как подступает старость. Руки сделались вялыми, а глаза плохо видели. Эта чеканка, пожалуй, его последняя работа. Но её ещё нужно довести. О чём она? Сразу и не ответишь. Быть может, о юности, а может, о памяти, не дающей покоя ни днём, ни ночью, об отце, сложившем голову под Смоленском. Ещё вчера не придавал этому значения, а теперь удивился, оказывается, мир триедин, но единство тут призрачное: прошлое, настоящее и будущее похожи на братьев, которые после долгой разлуки не могут найти общего языка, их уже ничто не связывает, они росли и воспитывались в разных семьях. Эта мысль была неприятна, заставляла тревожиться. Он отвечал не только за себя, но и за дело, перешедшее к нему от отца, а к отцу – от деда, Боорчи посмотрел в окно. На улице уныло, безлюдно. Дорога чешуйчато блестела под солнцем. Дотемна просидел у обледенелого окна. Ночь была морозная. Тускло светилась в глубине неба подкова месяца. Боорчи смотрел на чеканку и видел себя. Он был ещё мал, когда началась война. Отец простился с матерью и пошёл в военкомат. Она не плакала, нет, она словно бы окаменела, а ему стало не по себе. Проводы… Боорчи показал их на чеканке такими, какими они были на самом деле. Он и теперь ясно видит гурт облаков на горизонте и толпы людей на околице улуса, слышит прощальные слова и грустные улигеры. Мужчины ещё бодрились, но нет-нет да трогал кто-нибудь из них кожаный мешочек с отчей землёй. А потом, когда раздалась команда строиться, отец прижал мать к груди, сказал, что вернётся с победой. Но он не вернулся. Остался лежать в братской могиле под Смоленском. В центре чеканки были расположены змеистая лента окопов, изрытое снарядами поле и скорбящая берёза. Боорчи встречался с однополчанами отца и спрашивал, как тот погиб. Со временем в голове сложилась картина боя. Всю ночь Боорчи не выпускал из рук молотка и чекана. Работа поглотила его целиком. Лишь под утро, когда на горизонте зажглась узкая полоса зари и прояснилось небо, отложил в сторону инструмент и вышел на улицу. Было прохладно. Дышалось легко. Вернувшись, лёг на кровать, но спал недолго. Спустя час поднялся с постели, выпил горячего чая, ушёл в мастерскую. Так продолжалось ещё долго, и потом вместе с окончанием работы пришло какое-то холодное равнодушие, и уже ничего не хотелось делать. Порою становилось страшно. Чувствовал, лучше того, что сделал, уже не сделает. Изот застал дархана в подавленном состоянии духа, это неприятно поразило его. Шевельнулось сомнение: стоило ли приезжать в Утатуй? Растерянный, смятый усталостью старик мало походил на того сильного, уверенного в себе человека, который открыл ему Тамчинскую степь. Изот вздохнул. Неприятно сознавать, что ты никому не нужен. Вспомнил, как увольнялся с работы, и обида снова овладела им. Странно, ни бригадир, ни мастер не отговаривали переменить решение. А ведь он проработал с ними четыре года... Уже собрался уходить, когда дархан сказал: – Куда ты? Я ждал тебя. * * * Вдруг накатило давнее и встало перед глазами, сделалось тревожно. Пожалуй, ещё никогда так остро не чувствовал своего одиночества. Он любил копаться в себе, отыскивая причину той или иной происшедшей с ним перемены, и сейчас, подумав, вспомнил, что уже давно не брал в руки старинные книги. Однако это было ещё не всё, что лишило жизнь привычной наполненности. Уже давно в доме улигершина поселилась крыса. Она была длинной и худой, с острой мордой и жёсткими усами. Улигершин настолько свыкся с нею, что часто не мог заснуть, если не слышал её возни. Несколько раз заставал крысу за кухонным столом и зажигал свечку, но она, тоже привыкнув, не убегала – лишь сжималась в комок, готовая юркнуть в большую, между полом и стеной, щель. Улигершин нередко оставлял на ночь кое-какие съестные припасы, а утром с удовлетворением отмечал, что она подобрала всё. Случалось, подходил к щели и тихо насвистывал, вызывая крысу наружу, и она выходила, смотрела на него неподвижными чёрными глазами. Но вчера улигершин пошёл мыться и увидел, как в латунном, доверху наполненном грязною водою тазу, плавает что-то большое и серое. Не сразу понял, что это крыса, а когда понял, сморщился от враз подступившей тошноты. Потом сидел на обшарпанном, с грубо отёсанными ножками табурете, и думал, что скоро его душа вселится в тело какого-нибудь тарбагана и не дай Бог погибнуть ему, как эта крыса, без которой пусто и одиноко стало в доме. Долгие годы, читая старинные книги, искал в них смысл жизни, но так и не нашёл, как не постиг и мудрости древних, а они, должно быть, знали такое, что со временем утеряли потомки. Вдруг подумал, что зря лишил себя обычных мирских радостей. У него нет детей, и сознавать это тем обиднее, что смерть стоит на пороге и холодно дышит в лицо, а ему некому передать свои знания. Не выдержал и пошёл в степь, увидел там людей и взял в руки морин-хур***. Улигершин пел, и люди слушали, не перебивая. Он видел, как горят их глаза, и, вдохновляясь, вспоминал всё новые легенды. Но к вечеру на полевом стане появился председатель колхоза и сказал улигершину: – Вы дожили до глубокой старости, а ума так и не нажили. Не понимаете, что сейчас каждая минута на учёте. Улигершин хотел бы возразить и не смог. В груди заныло, а перед глазами поплыли фиолетовые круги, которые с каждой секундой делались всё больше и больше, превращаясь в больших мух. Повесил моринхур за спину и медленно побрёл домой. «Как он смел сказать мне такое? – думал с обидой. – Мне – улигершину!.. Ведь я намного старше его. Что происходит в мире?.. Неужели так просто можно обидеть старого человека?.. И почему люди не одёрнули председателя? Ведь им нравились, я видел, мои песни!..» <...> Улигершин лёг на деревянные, прикрытые овчиной нары. Его разбудил громкий стук в дверь. Подошёл к окну и увидел Боорчи и незнакомого парня, который нетерпеливо переминался с ноги на ногу. – Сайн байна, – поздоровался Боорчи. – Амарсайн. – Давненько я у тебя не был. – Я рад гостям. Проходите, станем пить чай. Улигершин внимательно посмотрел на рослого, с сильными плечами и рыжею щетиною на острых скулах, молодого человека. Да, это был он. Прошло столько лет, а Митрий не изменился. Показалось, что время побежало в обратную сторону. – Я ждал тебя, Митрий Найдёнов, – медленно сказал он. – Ты пришёл за мной? Изот смущённо улыбнулся: – О чём вы, отец? Он устал с дороги и никуда не хотел идти, но Боорчи уломал его. – Помнишь, как скрывались от злых людей на вершине УлзытыХана? – спросил улигершин. Изот смутился ещё больше. – Мне было грустно и одиноко без тебя, – продолжал улигершин. – Я находил успокоение лишь в игре на морин-хуре. Хочешь, спою приятную твоему сердцу песню? – И, не дожидаясь ответа, снял со стены морин-хур и запел о том, как от слёз Зелёной Тары в горах образовалось озеро, но люди не поняли своего счастья и вырубили лес на его берегах, и оно высохло. Изот смотрел то на Боорчи, то на улигершина, и думал, что они так же, как и отец, мучаются от стремления узнать то, на что другие даже внимания не обращают. – Помнишь ли ты легенду о голубоглазом орусе по имени Ерофей? – спросил Боорчи, когда улигершин отложил морин-хур в сторону. – Как не помнить? – А имя мастера, изготовившего серебряную пагоду?.. – Боорчи сверкнул тёмными, в коричневых крапинах глазами. Вместо ответа улигершин раскрыл перламутровую, что стояла на столе, шкатулку, с минуту сидел молча, а потом достал миниатюрную, со спичечный коробок, пагоду, сделанную из серебра. Это была точная копия буддийского храма. Всё в ней было сделано столь искусно и тонко, что Изот долго сидел с открытым ртом и изумлённо смотрел на пагоду. И всё, чем занимался до этого дня, показалось незначительным, мелким. Но, странно, это не угнетало, нет, заставляло сильнее биться сердце. Попросил у дархана лупу, которую тот всегда носил с собою, и стал внимательно осматривать пагоду. Теперь был хорошо виден каждый выступ на её стенах. Каким же терпением должен был обладать мастер, сумевший в маленькой вещи передать все детали буддийского храма! Но, оказывается, самое интересное было внутри пагоды. Изот увидел там женщину с ребёнком на руках. Глаза её были полузакрыты, лицо задумчиво и печально. – Эту вещь сделал великий мастер, – сказал Боорчи, но Изот не расслышал его слов. Женщина была как живая. С первого взгляда казалась спокойной и уверенной в себе, но Изот скоро почувствовал, что спокойствие её обманчиво. На стенах пагоды висели маски диковинных, с острыми клыками чудовищ. Изот не мог понять, что они выражают, и продолжал внимательно изучать каждую деталь храма. И вдруг его осенило. Ну да, маски – символ вечной тьмы и покоя, отсюда и напряжение в лице женщины, которая боится за своего ребёнка. Странно, Изоту показалось, что уже где-то видел эту женщину. Если бы обладал способностью к перевоплощению, он, не задумываясь, защитил бы её от диковинных чудовищ. Но ему не суждено защитить её, как не суждено до конца разгадать замысел неизвестного мастера. Изот не скоро ещё поставил пагоду на стол и произнёс: – Да… Это мастер!.. Помолчал, воскликнул взволнованно, что никогда не видел такой работы. А помедлив, добавил, что он не сразу догадался, отчего в глазах у женщины страх. И всё же… всё же он догадался. Боорчи поморщился, сказал, что в глазах у женщины нет и не может быть страха! Но тотчас оборвал себя. Кажется, сказал не то, о чём думал, но ему не хотелось соглашаться с Изотом, который с первого взгляда уловил такое, что сам он понял лишь спустя годы. С детства привык смотреть на пагоду как на высшее творение человеческих рук. Нигде не видел работы ярче, хотя приходилось много ездить и встречаться с разными мастерами. Но с возрастом пришли сомнения. Вроде бы всё совершенно в работе неизвестного мастера, каждая деталь наполнена глубоким смыслом, а чего-то не хватало, и он не мог понять, чего именно?.. Впрочем, есть ли оно – совершенство?.. Раньше думал, что это что-то вечное, а теперь и не знает, так ли?.. Улигершин снова взял морин-хур в руки, тронул смычком волосяные струны, запел... * Дархан — мастер по серебру ** Улигершин – сказитель, исполнитель улигеров – народных сказаний в жанре героико-исторического эпоса у монголов и бурят. *** Морин-хур – смычковый музыкальный инструмент.
|